
Не ПТУ, а колледж
| Оглавление | Видео опыты по химии | Видео опыты по физике | На главную страницу |
|
Химия и Химики № 8 2013 Журнал Химиков-Энтузиастов |
Доля правды Ю.Я. Фиалков |
|
ВОСПОМИНАНИЯ ОППОНЕНТА, РЕЦЕНЗЕНТА И ЧЛЕНА УЧЕНЫХ СОВЕТОВ |

Не ПТУ, а колледж |
|
Мораль - о наказуемости излишнего любопытства. И не лишнего тоже.
Дело относится к самому началу 70-х. Прилетев по издательским делам в N рано утром, я в ожидании коротал время за чтением газет. В какой-то из них обнаружились извещения о защитах диссертаций: в те годы общественность через областную или городскую прессу оповещалась о пополнении легиона "остепененных" мучеников и тружеников науки. Одно из этих извещений заставило меня сделать стойку: в некоем институте, имеющем отношение в числе прочего к фармации, анонсировалась защита кандидатской диссертации на тему: "Взаимодействие и электропроводность в неводных растворах". Хорошенькое дело: здесь и фармацевты занимаются проблемой, с которой я сросся, можно сказать, кожей, а я об этом не ведаю даже понаслышке, что довольно странно для автора, приехавшего работать с редактором над монографией по проблемам физической химии неводных растворов. Вот почему, отодвинув издательские дела, я сел в трамвай, следовавший в район фарминститута. Добравшись до цели и отыскав библиотеку, куда за месяц до защиты диссертанту положено приволочь фолиант, я столкнулся с первым препятствием - весьма незначительным в сравнении с чередой грядущими. Библиотекарша, сидевшая под громадным портретом (маслом!) члена Политбюро Шелеста, пронзительно неуместного в этом вместилище разума, пусть и несколько пыльном, разъяснила мне, что здесь защищаются густо. Кандидатов наплодили - частым гребнем не вычешешь, но ни один из них диссертацию перед защитой не приносил. Да и после защиты притаскивают через раз, дай Бог им здоровья, потому что не только их труды - Государственную Фармакопею скоро ставить будет негде. - А зачем вам эта диссертация? - равнодушно осведомилась библиотекарша в завершение монолога. - Интересуюсь... - Телегу катить будете, - безразлично констатировала она. Я обиделся: - Зачем же, я занимаюсь растворами, а тут название уж больно интересное. И потом - каждый советский человек имеет право... Ссылка на права советского человека в лучшем случае убедила библиотечного работника в том, что сутяга я начинающий. Впрочем, и я, и мои намерения были ей глубоко безразличны, о чем она поведала мне с подкупающей искренностью. И пошел я по лабиринтам коридоров, отыскивая логово ученого секретаря, у которого, уж наверное, можно было разжиться вожделенной диссертацией. Табличка "Ученый секретарь" была привинчена к двери, за которой восседала дама неопределенно-почтенного возраста. Ее причёска упиралась в густой частокол орденских планок висевшего над ней поясного портрета Брежнева. Икона была, несомненно, слишком велика для крохотного помещения, почти целиком заполненного хозяйкой. Не знаю, как нарекли будущего ученого секретаря ее родители, допустим Аделаидой. Аделаида рассеянно выслушала меня и затем с обидной апатией сообщила, что: а) у них в институте в библиотеку диссертаций сдавать не принято; б) она работает в институте с 1932-го года; в) я первый, кто с этого самого года поинтересовался диссертацией. Завершив перечисление, Аделаида прошлась глазами по мне - от лысины до замызганной по случаю слякотной погоды обувки, затем обратно - от штиблет до плеши, и скучно осведомилась, а зачем мне, собственно, эта диссертация нужна и кто я такой есть. Я принялся, было пояснять, что в соответствии с положением о присуждении ученых степеней каждый советский человек имеет право, но был прерван вопросом, повторенным с раздраженной артикуляцией: - кто? я? такой? есть? - Профессор?! - подняла брови Аделаида, и в ее взоре отразилось вялое презрение к моей убогой фантазии. Вытащил удостоверение. Скользнув глазами по фотографии и оригиналу, Аделаида пожала плечами, задумалась и затем осведомилась: - Зачем вам ее топить? - Кого? - Кого? Кого? - рассердилась Аделаида. - Она хорошая девочка, я знаю ее родителей. Лучше бы... - Не знаю никакой девочки с родителями! - взорвался я. - Химик я, химик! И потом, каждый советский человек... Не дав мне продекларировать права советского человека, Аделаида неторопливо удалилась. Кислороду в кабинете прибавилось. Вернувшись через несколько минут, Аделаида сообщила, что меня желает видеть проректор. Сидевший под портретом Ленина проректор прежде всего продемонстрировал, что бдительность у советских фармацевтов на высоте, ибо тут же было испрошено удостоверение. Со сноровкой, свидетельствовавшей о причастности к компетентным органам, проректор изучил мое удостоверение, сравнил фотографию с оригиналом и, не утруждая себя даже имитацией любезности, приступил к допросу: - Что имеете к диссертантке? - Знать ее не знаю. - С руководителем счеты сводите? Как там у вас на Украине говорят: паны дерутся... - И руководителя не имею чести... У проректора в глазах появилось нечто подобное удивлению. - Так на кого же вы собираетесь писать? - Да не собираюсь я ничего писать! - взорвался я и завел свою шарманку: - Каждый советский человек имеет право... - Право? - изумился проректор. - Право? Аделаида Ардалионовна, оставьте нас, пожалуйста. Аделаида обиженно продефилировала в приемную. - Э-э-э, Юрий Яковлевич, - вкрадчиво начал проректор, заглядывая в моё удостоверение, как в шпаргалку, - скажите, сделайте милость, по-дружески скажите, куда и на кого вы собираетесь писать? И зачем? Мое пояснение, в котором я тупо напирал на проблему возникновения электропроводности при смешивании не проводящих ток компонентов, еще более озадачило проректора: с одной стороны, вроде бы, и не псих, но с другой - тащиться черт знает, откуда только для того, чтобы посмотреть какую-то диссертацию? Проректор долго жевал губами и переводил глаза с меня на телефонную трубку. Наконец, он сделал выбор - понятно, в пользу последней: - Иван Иванович (Сидор Сидорович - или как-то по-другому), тут у меня сидит профессор из Киева. Интересуется диссертацией. Фамилия? Фамилия - Фиалков. В трубке зашумело, заволновалось, а лицо проректора неожиданно сменило экспозицию: - Юрий Яковлевич, - почти подобострастно сказал проректор, - с вами хочет встретиться наш ректор. Что же вы сразу не сказали... И не предупредили о приезде. Мы бы вас ветре... Но в кабинет ректора идти не пришлось. Дверь распахнулась. Вошедший начальственного вида мужчина обвел кабинет быстрым взглядом и торопливо спросил: - А где же Фиалков? - Вот... - недоуменно, потому что в кабинете, кроме нас, никого больше не было, ткнул в меня перстом проректор. - Это Фиалков?! - возмутился ректор и, вонзив в меня бдительные очи, выдвинул традиционное, видимо, для этих стен требование: - А удостоверение у вас есть? И паспорт? Бледный проректор, хищно на меня оглядываясь, поднес мое удостоверение ректору. Тот, внимательно изучив его, широко улыбнулся: - Яковлевич! Сын, значит... - и пояснил проректору: - это не Фиалков, это сын! Проректор воздел очи к портрету основоположника, ища у того, по партийному обыкновению, ответа, но не получив разъяснения, на всякий случай умилился: - Вот и я вижу, что сын! - и, не сдержавшись, пожал плечами. Ректор, приобняв меня за плечи, что должно было свидетельствовать об искренней дружеской симпатии, повел в коридор и поставил перед портретом моего отца, висевшем среди других видных деятелей фармации. Посчитав, что этим расположение завоевано раз и навсегда, под локоток завел меня в кабинет, усадил перед столом и, сев под громадным портретом очень известного в то время секретаря обкома, движением глаз велел проректору и Аделаиде оставить нас вдвоем. Когда те прикрыли за собой дверь, ректор ласково осведомился: - А зачем вам, дорогой, все это надо? - Я, понимаете, интересуюсь проблемой электропроводности растворов и... - Я о другом: зачем вам заниматься писаниной? - прервал меня ректор. Я помолчал, примиряясь с мыслью, что мое наступление захлебнулось, и решил, пожертвовав репутацией, перейти к эшелонированной обороне: - Ладно, писать не буду, но диссертацию посмотреть хочу. Ректор удовлетворенно кивнул, позвонил и спустя минут пять какая-то девица, видимо, сама диссертантка, испуганно моргая, притащила вожделенный том. Потребовалось лишь слегка перелистать диссертацию, чтобы стало очевидным: для меня она никакого интереса не представляет. Мне оставалась распрощаться, что я с удовольствием и сделал, еще раз заверив ректора, проректора и Аделаиду, что не только телеги - детской коляски в ВАК катить не буду. Возвращаясь в трамвае, подводил итоги вояжа: потеряно часа два. Посчитав, что урон не столь уж велик, решил отправиться в издательство. Но не знал я, беспечный, что мои неприятности только начинаются. Прошло несколько месяцев, и я начисто забыл об эпизоде у фармацевтов, пока ко мне не пришёл профессор Сергей Павлович М. Смущавшийся и по менее пикантным поводам, Сергей Павлович, который приехал для разговора со мной из своего родного города, на этот раз и вовсе не знал, куда себя девать. Перемежая рассказ прихотливо закрученными извинениями и недоумениями, Сергей Павлович изложил дело, которое на этот раз оказалось достаточно неприятным. М. заведовал кафедрой в Львовском мединституте и вынужден был время от времени делать реверансы в сторону медицины. В результате у одного из его аспирантов родилась диссертация, посвященная анализу веществ, интересных для фармации. Поэтому было решено, что ее следует представить на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук. Именно это привело ходоков из Львова - Сергея Павловича и его аспиранта - в упомянутый химфарминститут на родственную кафедру, с которой они до того никакой связи не имели. Заведующий кафедрой доцент Н., узнав, что ходатаи приехали с Украины, не затруднив себя даже перелистыванием работы, сказал, что диссертацию к защите принимает, но с категорическим условием: одним из оппонентов непременно должен быть Фиалков. Резоны руководителя, дескать, Фиалков не аналитик и ни с какого конца к этой тематике не причастен, Н. игнорировал и несокрушимо стоял на своем. Когда же М. наконец решился и спросил Н., чем вызвана его настойчивость, тот с прямотой старшины-сверхсрочника сообщил что Фиалков, видимо, держит на него зло, так как с полгода назад приходил в институт закопать его диссертантку. Он мог предположить, что Н. Спустил на него "дуроломов" - ректорскую свору, чтобы отговорить писать "телегу" на диссертацию местной дуры. Завершив монолог, Сергей Павлович замолчал и вопрошающе посмотрел на меня, ожидая объяснения. Пояснения последовали. Я сообщил, что диссертацию десять минут подержал в руках, не ведая, кто руководитель работы. Об отрицательном отзыве не помышлял. Помолчали. - Что же мне делать? - прервал паузу Сергей Павлович. - Мне что делать? - эхом отозвался я. Сергей Павлович молчал и глядел на меня с тоской. И я согласился в первый и, конечно, в последний раз выступить оппонентом по аналитической диссертации, да еще на соискание фармацевтической степени. Спустя месяц-другой в сквернейшую мартовскую погоду я прилетел в N на защиту, перед этим насидевшись в Борисполе, а по непогоде - еще и в каком-то промежуточном аэропорту, нахлебавшись вдоволь замешанного на крутом хамстве знаменитого аэрофлотовского сервиса. На следующее утро я шел на защиту, размышляя о "мосте", который предполагает навести Н. между нами, и о том, из чего и для чего будет сработано это инженерное сооружение. В институтском вестибюле меня уже ждал среднего роста, среднего телосложения и средних же лет гражданин, оказавшийся тем самым Н. Познакомились. После чего Н. сказал с какой-то концентрированной проникновенностью: - Спасибо! - Пожалуйста, но за что? За то, что приехал? Так это... - И за это тоже, но, прежде всего, за ЭТО! Надо думать, под этим "ЭТО" Н. подразумевает мое высокой пробы благородство, заключавшееся в том, что я, урезоненный институтским командованием, не накатал бумагу в ВАК на его диссертантку. Оставалось, впрочем, загадочным, почему он в разговоре с М. так сурово характеризовал своих благодетелей, роль которых в предотвращении планировавшегося мною кляузничества должна была быть ему известной. Однако снимать все эти вопросы здесь было бы, по меньшей мере, опрометчиво. Поэтому я, придя в состояние недоумения, предложил Н. удалиться в место, менее населенное, чем проходная института. Объединенные общей целью мы пошли по запутанным институтским коридорам. Через пару поворотов повстречались с Аделаидой. Я собрался было поздороваться со старой знакомой, однако ученая секретарша отвернулась и продефилировала мимо, излучая волны высокоэнергетического презрения. Я было решил, что после эпизода с диссертацией она получила взбучку от проректора и... И тут же в коридоре, легкий на помине, появился и он. Но и проректор расстрелял меня в упор очами и демонстративно прошел мимо. Я почти физически ощутил, как меня в этих замызганных институтских коридорах обволакивают клубы тяжелой недоброжелательности. Поэтому был даже рад тому, что можно было уединиться с Н. в его кабинете. На письменном столе был, конечно, уже сервирован малый джентльменский набор: коньяк с орнаментом. Я даже не стал, как поступал обычно, представляться непьющим печеночником, но тут же потребовал разъяснений по поводу всего этого клубка недоумений. Н. охотно пояснил, что, поступок мой замечательный. Он мне безмерно благодарен, потому что так этой гадине и надо. Ей не в кандидатках ходить, а шваброй в институтском туалете махать. А я просто молодец, да что там молодец - гений, что не внял охмурежу тех двух идиотов и базарной бабы и поступил принципиально, направив в ВАК отзыв, превосходный отзыв, благодаря которому негодяйку завалили. Прав был Стендаль (Бальзак? Мопассан? Золя?), утверждая, что жизнь может подкинуть сюжет, какой и десять романистов не придумают. Но от мудрости классика мне было не легче. Стало быть, анонимка все же появилась. И, следовательно, я хожу в сволочах в глазах всей институтской публики. А что обо мне думают диссертантка и ее болельщики, и воображать тошно! А с другой стороны, надо что-то делать... То есть понятно, что делать - послать их всех туда, где им надлежит быть, и бежать из этого серпентария. Да, но через полчаса защита. И мой подзащитный, уж, наверное, ни в чем не виноват... Вероятно, у каждого в жизни бывают моменты, о которых и спустя годы вспоминаешь с тяжелым стыдом. Вместо того чтобы сказать Н. все, что о нем думаю, стал наворачивать одно идиотство на другое. Вначале принялся пылко убеждать Н., что не писал ничего, и писать не помышлял. Н. сочувственно внимал моему фонтанированию, изобразив на физии фигуру: дескать, говорить-то ты говори, я бы на твоем месте тоже отнекивался, но тут, с глазу на глаз - мы люди свои и в деле этом скованы одной цепью. Дальше - больше: кинулся разыскивать проректора и, найдя, стал этому гебисту клясться, что к анонимке не имею никакого отношения. Тот не счел нужным даже прикидываться, что верит мне. Выступление на защите тоже начал вариациями на эту тему. При этом еще тупо острил. Стоит ли говорить, что к полудню даже подавальщицы институтской столовой знали, кто стал супостатом для бедной девочки? Лишь потом, спустя несколько дней, коря себя за идиотское поведение, я сообразил, что попался в великолепно подготовленную ловушку. В точном соответствии с планом Н. я на глазах всего института превратил в убежденность предположение о том, что именно я являюсь автором анонимки, сотворенной, понятно, Н. Именно для этого Н. потребовалось вытащить меня в институт и продемонстрировать публике. Что бы там ни говорили, но Н. сыграл с моей помощью этюд с изумительно-иезуитским мастерством, оставляя открытым вопрос о совместимости гения и злодейства. |
|
I
Оппонирую кандидатскую диссертацию в Институте коллоидной химии и химии воды украинской Академии. Защищаются две работы, моего диссертанта - вторая. Прихожу загодя и попадаю в разгар первой защиты.На сцене бойко докладывает работу юная диссертантка. Судя по плакатам, диссертация посвящена проблемам очистки воды. За председательским столом лицом к залу покойно спит академик Леонид Адольфович Кульский, патриарх науки о технологии воды. Доклад идет к концу и, когда диссертантка приступает к чтению выводов, ученая секретарша легонько толкает академика. Тот с натренированной сноровкой мгновенно просыпается и начинает всматриваться в развешенные графики и таблицы. При этом его взгляд, вначале младенчески бессмысленный, быстро приобретает неожиданную для его расслабленной дряхлости остроту. Не успевает девчушка произнести ритуальное "благодарю за внимание", как академик, не осведомившись о том, имеются ли вопросы у оппонентов, задает вопрос сам. Девочка, почему-то сильно оробев, отвечает. Ответ разгоняет последние остатки сна Кульского. Он удовлетворенно восклицает "интересно", встает, подшаркивает к таблицам и, переходя от одного плаката к другому, принимается сыпать чередой весьма конкретных и дельных вопросов. Каждый из них он начинает с обращения "деточка", так как бумажка с реквизитами подзащитной лежит на столе, а академик близоруко прилипает к плакатам. Диссертантка все увереннее ведет диалог с Кульским, который на каждый ответ бросает в аудиторию довольное: - Смотрите, и с этим справилась! По всему видно, что тема здорово заинтересовала Кульского. Становится приятно, что преклонные годы не уменьшили интерес к предмету основоположника украинской науки о технологии воды. Наконец, примерно через полчаса, академик иссякает и говорит: - Коллега, ваша работа меня весьма заинтересовала. Заходите ко мне завтра-послезавтра, поговорим подробнее! И несколько упреждая события, обращается к членам совета: - Хорошая работа, буду голосовать "за"! Заседание выкатывается на наезженную колею, и после оглашения отзыва ведущего учреждения заскучавший Кульский, заглядывая в шпаргалку, оглашает: - Слово предоставляется научному руководителю. Ученая секретарша, приникнув к уху академика, что-то шепчет. Тот, не выходя из скуки, спокойно сообщает: - Извините, научный руководитель - это я. Берет протягиваемую секретарем бумагу и, сменив очки, зачитывает свой отзыв. Защита завершается благополучно. После единогласного голосования я подхожу к ученой секретарше и, не желая вливать ложку дёгтя в успешную защиту, с возможной степенью интимности напоминаю, что согласно ВАКовскому положению руководитель работы не имеет права председательствовать на защите. - У нас все можно! - закрывает тему секретарша. И на здоровье. II Схожая ситуация. Докторская защита в институте общей и неорганической химии АН СССР. Первый оппонент академик Виктор Иванович Спицын, настолько знаменитый, что его портрет входит в комплект "Выдающиеся советские химики", выпускаемый издательством "Педагогика". Защита идет без колдобин и неожиданностей, и хочется спать. Члены совета зевают, широко и со вкусом. Для отзыва слово предоставляют академику. Спицын достает из пиджака сложенный вчетверо отзыв и приступает к чтению. Голос звучный. Артикуляция артистичная. Ударения аристократические. Но... постепенно в аудитории возникает настороженное недоумение, пожалуй, даже несколько скандализованное. Дело в том, что в отзыве время от времени звучат выражения: "как показано нами...", "мы изучили...", "нами установлено...". Нет же, академик вовсе не использует оппонентскую трибуну для популяризации своих достижений, но, похоже, говорит от лица защищающегося. Ничччего не понятно. Наконец, кто-то сметливый берет со стола том диссертации, открывает его - и оказывается, что оппонент слово в слово зачитывает выводы, написанные диссертантом. Загадка проясняется до обидного тривиально. Для сокращения и рационализации труда Виктор Иванович отчеркнул в диссертации выводы и попросил машинистку перепечатать, что она и сделала с необходимым тщанием. Члены совета и присутствующие ведут себя безукоризненно, примерно как в случае, когда оказывается, что у сановного старца не застегнуто то, что должно быть застегнуто: то есть видят, но не замечают. Защита заканчивается благополучно. После оглашения результатов, как водится, небольшая толпа окружает свежеиспеченного доктора, поздравляет и, натурально, любопытствует: - Ты что, отзыва перед защитой не читал? - Читал, конечно, сам его перепечатал и дал ему подписать. Он еще благодарил. - ??? - А на защиту прихватил старый вариант. Такая вот незадача! - Плюнь, какое это имеет значение?! В самом деле, какое это имеет значение. III Чехов писал в одном из писем к брату Александру, что для изображения лунной ночи нет необходимости тратить страницы текста: достаточно написать о горлышке разбитой бутылки, которое отсвечивает светом луны... Для того чтобы почувствовать эпоху и одного из ее представителей, в данном случае достаточно привести один эпизод из докторской химической защиты, состоявшейся в сельскохозяйственной академии на рубеже 50 - 60-х. Диссертант - доцент М., подержанный, даже слишком, мужик. Столь солидный возраст объясняется тем, что свои лучшие годы, пришедшиеся на середину 30-х годов доцент потратил на писательство. Творчество его сводилось к многочисленным письмам, адресованным единственному адресату - понятно, какому. Результатом же этих эпистолярных усилий стали десятки посадок. На одном из плакатов, развешенных для защиты, красуется надпись: "Данные Вальдена (ФРГ), данные автора (СССР)" Слово "ФРГ" написано черной тушью; страна, имеющая счастье числить своим гражданином доцента М., - красной. Кровь замученных? IV
Защита в Ростове-на-Дону. Оппонент по кандидатской диссертации хороший химик Андрей Георгиевич Бергман, многочисленными женитьбами вынесенный из Москвы и обретающийся в этом городе. Я - второй оппонент. Жду личного знакомства с коллегой с интересом. Но коллега запаздывает. Впрочем, защиту начинают, так как знают, что Андрей Георгиевич никогда не поспевает ко времени, а отзыв приносит прямо на защиту. Вот уже диссертант завершил доклад, вот уже исчерпались вопросы, зачитан отзыв ведущего учреждения и... И тут, слава Богу, вбегает, запыхавшись, Бергман. Не успел он отдышаться, как ему предоставляют слово. Профессор распахивает объёмистый баул, долго роется в его недрах, наконец, извлекает отзыв и приступает к чтению. Но его тут же останавливают, так как выясняется, что Бергман выудил отзыв на другую работу. Андрей Георгиевич снова погружается в портфель, на этот раз уже надолго. Когда он выныривает на поверхность, видно, что отзыв, если таковой и существовал, не обнаружен. Диссертант бледнеет. Бергман смущен. Присутствующие заинтригованы. Председатель озадачен. Первым приходит в себя Бергман. Он берет со стола диссертацию, раскрывает ее и спокойно, абсолютно спокойно, объявляет: - Отзыв о диссертации, представленной на соискание... Работа... посвящена... Она состоит из введения, литературного обзора, экспериментальной части, обсуждения результатов и выводов. И так далее, что называется, с листа, явно импровизируя, оглашает отзыв. И даже умудряется подпустить пару-другую замечаний. Публика встречает экспромт одобрительным гулом. Дело, в общем, незаконное: отзыв должен быть представлен в совет дней за десять до защиты. Ладно, пусть не за десять. Но должен быть хотя бы написан. Но кто будет омрачать защиту из-за пустяка? Пустяк - он и есть пустяк. V
Защита у нас, в КПИ. Бенефициант - многолетний декан Ралко. Для усиления позиции был ангажирован сам Николай Васильевич Белов, прославленный кристаллограф. Предстоящей встречи с классиком жду с понятным интересом. Не разочаровался. Худенький, невзрачный академик, когда ему предоставили слово, вышел к председательскому столу, надел и тут же снял пенсне, сильно задрал голову вверх и, крепко зажмурив глаза, сказал: - Я вчера вечером в поезде в "Journal of Geology" прочитал статью Смайлса о магмообразовании и должен доложить вам, уважаемый председатель и остальные уважаемые, что это - совершеннейшая чушь. Далее на протяжении примерно получаса Белов с блеском и вдохновением размазывал Смайлса по замызганной стене малой химической аудитории, причем, судя по всему, справедливо. Покончив со Смайлсом, корифей открыл глаза, придал голове нормальный угол по отношению к туловищу, надел, а затем снял пенсне и отправился на место. - А как же диссертация? Ваш отзыв, Николай Васильевич? - оторопело остановил академика председатель совета. - Какая диссертация? - не понял Белов. - Ах, диссертация! Так я же вам все написал. Сел и зашептал что-то про себя, очевидно, добивая беднягу Смайлса. Мне академик понравился чрезвычайно. VI
Приглашен оппонентом в МГУ. Диссертация по радиохимии. Диссертант - китайский аспирант. Руководитель - Андрей Николаевич Несмеянов. Время - конец 60-х или начало 70-х. Приезжаю в день защиты, прихожу на кафедру и застаю обстановку скандала. Дело и впрямь заковыристое. Накануне, как водится, назначен репетиционный прогон защиты. Кафедральный люд собирается в аудитории и с недоумением, граничащим с ужасом, видит, что на каждом плакате, подготовленном для защиты, яркой красной тушью выведено: "Долой советский ревизионизм!" (Напоминаю, что это были годы пика разногласий между СССР и Китаем. Не знаю точно, чего они там не поделили.) Китаец знал, что делал. Ему после защиты возвращаться на родину, а там с него спросят, сколь активно он отстаивал платформу родимой партии, которая, понятно, куда важнее, чем измеренная с помощью меченых атомов упругость паров молибдена. Аспиранта урезонивали долго, но безрезультатно. Впрочем, результат был, и даже не один: сердечный приступ у Несмеянова и отмена защиты. С тем китаец отбыл, так кандидатом и не став. Обидно. Тем более что его, как и других обучавшихся у нас китайских студентов и аспирантов, все равно забили, изгоняя в фильтрационном лагере советскую ревизионистскую заразу. VII
На кафедру для отзыва в качестве ведущего учреждения поступила диссертация по коллоидной химии. Работа выполнена в Одессе. Посвящена золям гидроксида железа. Принимаюсь читать. На одной странице: "при нагревании образуется раствор интенсивно коньячного цвета". Через несколько страниц: "после чего отфильтровывают маточник слабо коньячного цвета". Еще: "...изменяет цвет с зеленого на коньячный". И перед самыми выводами - неожиданное: "...выпадают кристаллы цвета свежего пива". Дал положительный отзыв. Замечание: при обозначении цвета автор пользуется негостовской терминологией. Автор - натура несомненно художественная. Поэтому и сопьется. |

Коньяк |
|
КОЕ-ЧТО ХИМИЧЕСКОЕ |
|
Реактив фирмы "Кальбаум" 1945-й год. 86-я средняя мужская школа г. Киева. Седьмой класс. Начинаем изучать химию. Преподаватель - Вениамин Иосифович Перельман, именуемый в просторечье Виньйосичем и добродушно отзывающийся на это обращение. Рост - метра полтора, масса - соответствующая, сильно хромает: последствия фронтового ранения. Человек редкой доброты, которую он камуфлирует свирепой миной, всеми, и им в первую очередь, игнорируемой. Отступление. Где-то в конце 60-х годов, уже в ранге профессора, читаю лекцию учителям города. Спустя какое-то время после начала мой голос стали сопровождать какие-то непонятные звуки: оказывается, в третьем ряду всхлипывает Виньйосич, расчувствовавшийся оттого, что из брошенного им в ниву образования семени взошли не только сорняки. Прерываю лекцию, иду к своему первому учителю химии, и под аккомпанемент растроганного сморкания пожилых учительниц мы обнимаемся и целуемся. Однако наши отношения не всегда были такими идиллическими. Все четыре года, пока мы учили химию, у меня в классе была непременная общественная обязанность - сводить до минимума время, отводимое на опрос. Достигалось это примитивным но весьма действенным способом. Возникая в двери (собственно, вначале появлялся поднос, на котором Вениамин Иосифович носил немудреный реквизит для демонстрационных опытов, а уж затем возникала отнюдь не богатырская фигура химика), Виньйосич, не успев поздороваться, упреждал: - Фиалков, нет вопросов! - А вот и есть вопросы, Виньйосич! - А я тебе говорю - нет вопросов! - Как же нет, когда есть! - Фиалков, ты у меня, как пуля, вилетишь! Диалогом удавалось стравить несколько минут, тех самых, за которые пару страдальцев, ничего против Виньйосича не имеющие, но химию ненавидящие, так сказать, имманентно, избегали неминуемых двоек. Но все это было потом, а в 45-м году, приступив после четырехлетнего военного перерыва к учительству, Вениамин Иосифович сильно переживал из-за того, что самую вещественную из наук, химию, он должен иллюстрировать только доской и мелом (через много лет у Нернста я прочел определение - "Kreidchemie" - "меловая химия"). В тот первый послевоенный учебный год все химическое достояние Виньйосича составляла подобранная где-то в Германии банка с каким-то индикатором фирмы Кальбаум. Для школьной химии эта роскошь была ни к чему. То есть, может быть, и пригодилась бы, но много ли радости от зубочистки из пера колибри, коли на обед и хлеба-то нет? Тем сильнее обрадовался учитель, когда я с помощью отца раздобыл и принес в пробирке с керосином около грамма металлического калия. Виньйосич сразу засуетился и объявил по этажам, что завтра всем классам, от седьмых до десятых, надлежит собраться в нашем 7-м "Б", чтобы созерцать впечатляющий опыт взаимодействия щелочного металла с водой. Насчет впечатлений Виньйосич не обманул. Хлеба в том 45-м было мало. Тем больше мы любили зрелища. Поэтому назавтра в нашем классе собралось около сотни послевоенных переростков. Сидели на полу. На партах. На плечах тех, кто сидел на партах. На плечах тех, кто сидел на плечах тех, кто сидел на партах. И так далее - лишь чуть не доставая до потолка. Виньйосич с волненьем артиста, взял принесенную из дома суповую тарелку с водой, пинцетом захватил калий и перестал дышать. - Не видно!!! - заорала колышущаяся гроздями рук и ног пирамида. Виньйосич поискал, что бы такое подставить под тарелку, и приспособил для этого неразлучную банку с кальбаумовским индикатором. Затем разжал пинцет, калий упал в воду и юрко забегал по её поверхности, полыхая фиолетовым огоньком. Желая порадовать педагога своим удивлением перед волшебным миром химии, сборище извергло стоустый вопль, под напором которого выделяющийся из воды водород перестал, по-видимому, диффундировать в воздух - если только то, что составляло атмосферу 7-го "Б", можно было обозначить этим термином. Тем не менее, водород, изловчившись, нашел-таки необходимую треть кислорода и взорвался, разнеся вдребезги банку с индикатором. Башня свидетелей торжества законов химии с радостными кликами развалилась, её составляющие перемешались с пылью реактива, и после небольшого радостного переполоха обнаружилось, что все и всё перемазано в добротно-изумрудный цвет. Всемирно известная фирма оправдала свою репутацию. Отмыть индикатор водой оказалось невозможным. И спустя полчаса торговки соседнего со школой бессарабского рынка, удивить которых чем-либо было трудно, оторопело матерились и крестились, созерцая отару ярко-зеленых огольцов, низвергающихся вопящим потоком вниз по Кругло-Университетской. Когда я, пугая прохожих футуристической физиономией, прибежал домой, мама заплакала и сказала, что она знала, что ЭТО плохо кончится - у маминого "ЭТОГО" конец всегда был скверным, - и принялась отдраивать меня дефицитным стиральным мылом. Но фирма Кальбаум не зря брала деньги за свою продукцию - чем больше мыла на меня расходовалось, тем интенсивнее я изумрудел: индикатор углублял окраску в щелочной среде. Вечером отец быстро навел порядок, протерев меня тряпочкой, смоченной в уксусе и вернув меня тем самым в белую расу. Но из всех родителей позеленевших учащихся 86-й химиком был только мой отец. Поэтому, придя на следующий день в школу, я увидел ее в осаде взволнованных мамаш, каждая из которых держала за руку пронзительно зеленого отпрыска. Родительницы не скрывали желания линчевать Перельмана здесь же, в школьном дворе, причем немедленно. Чада же, напротив, не скрывали глубокого удовлетворения от события, сулящего, по меньшей мере, несколько дней воли и развлечений. Кровожадность родительского корпуса усугублял сам мечущийся Виньйосич, который, к сожалению, не знал, как укротить хитрый немецкий индикатор. Когда несколько лет спустя я прочитал слова Менделеева о том, что нет ничего практичнее хорошей теории, то мне, прежде всего, вспомнилась история с реактивом фирмы Кальбаум. Воздвигнувшись над неорганизованной толпой, я поведал ей рецепт обесцвечивания и тут же убедился - в первый, но далеко не в последний раз, - что пророков в своем отечестве не привечают. Мамаши дружно пообещали, что они, конечно, попробуют сбрызнуть сыновей, как подзабытую в те времена селедку, уксусом, но если это не поможет и выяснится, что химик заразил сыночков неведомой хворобой, то они вернутся, чтобы расправиться и с тщедушным учителем, и этим паршивцем, который их дурит... ...Еще раз восхищусь фирмой Кальбаум: когда перед праздниками мы мыли в классе полы, то и три года спустя разлитая вода становилась ярко-зеленой, вызывая у моих одноклассников если не любовь к химии, то, во всяком случае - уважение. |
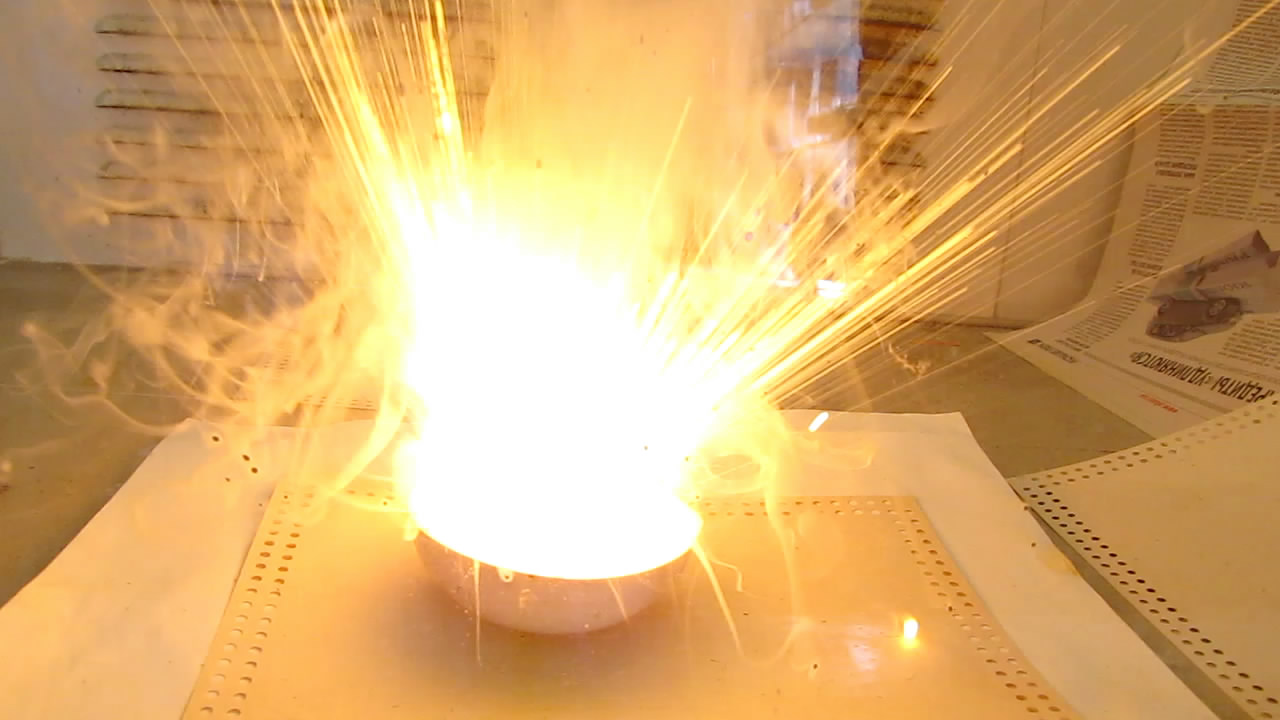
Калий и азотная кислота |
|
Теория валентности, или интерес в казенном доме
Году в 62-м или 63-м, придя в редакцию "Украинского химического журнала", чтобы оставить рукопись статьи, я увидел сидящего там в одиночестве ответственного редактора - академика украинской Академии Анатолия Кирилловича Бабко, одного из самых видных аналитиков страны. Академик находился в состоянии, представляющем собою сложный коктейль из задумчивости, раздражения, недоумения и растерянности. Положив на стол секретаря редакции статью, я вознамерился, было уходить, но был остановлен:- Прочитайте! - протянул мне академик листки. Я взял неряшливые страницы, напечатанные на какой-то явно древней машинке, и посмотрел на заголовок. Статья называлась "Новая теория строения материи". Автор - учитель труда одной из киевских школ. Дело понятное. Такие ниспровергатели основ вечно преследуют институты и редакции проектами вечных двигателей и схемами строения Вселенной. Пожав плечами, я взглянул на Анатолия Кирилловича, не понимая, чем могло его озадачить творение очередного доморощенного гения. - Прочитайте! - еще раз повторил редактор. Прочитал. Автор утверждал, что им доподлинно установлено: атомы химических элементов в нейтральном состоянии представляют собою маленькие жёсткие шарики. Вступая в химические реакции, они начинают обтёсывать друг друга, приобретая число граней, равное валентности элемента. Одновалентным водороду, натрию и фтору учитель труда, обнаруживая хорошую фантазию, приписал форму ленты Мёбиуса. Закончив чтение, я с доступной мне выразительностью указал перстом на корзину для бумаг, стоявшую возле редакторского стола. - В корзину, говорите? - внезапно возбудился ответственный редактор. - Тогда почитайте вот это! - протянул он мне две бумажки. На первой из них под шапкой "Секретариат ЦК КПСС. Канцелярия" было начертано примерно такое: "В ЦК КПУ, отдел агитации и пропаганды. Направляем Вам статью имярек "Новая теория строения материи" и предлагаем решить вопрос о целесообразности ее публикации на страницах какого-либо из республиканских периодических изданий". На второй бумаге под шапкой "ЦК КПУ Отдел науки" значилось: "Ответственному редактору "Украинского химического журнала" академику А. К. Бабко. Отдел науки ЦК КПУ считает целесообразным опубликовать прилагаемую статью в вашем журнале, снабдив ее по усмотрению реакции примечанием "В порядке дискуссии" ". - Что у этого типа ТАМ, - возвел я очи горе, - рука? Анатолий Кириллович пожал плечами. - А если им разъяснить? - предложил я. - ИМ?! - горестно усмехнулся академик с интонацией, которая тянула лет на пять со строгой изоляцией. - Но ведь журнал станет посмешищем, если такое напечатать! - озвучил я очевидное. Анатолий Кириллович сокрушенно качнул головой в сторону сопровождающих статью директив. - А вы с автором беседовали? - полюбопытствовал я. - Беседовал... Он еще следующий опус готовит о том, что вкус соединений зависит от степени заостренности граней. - Может, я попробую с ним поговорить? - предложил я свои услуги в этой цугцванговой ситуации. - Не поможет... - затравленно спрогнозировал академик. - Поможет! - самонадеянно заверил я, решив про себя, что не родился еще учитель труда, с которым нельзя было бы столковаться с помощью бутылки. - Попробуйте... - дал разрешение Анатолий Кириллович на акцию, вложив в согласие максимум скепсиса. На следующий день я поехал в одну из окраинных школ Киева и, разыскав учителя, сразу понял, что моя миссия обречена на провал. Потому что увидел перед собою человека с глазами ультрамариновой голубизны, в которых светились неукротимый порыв к Познанию Мира и Вера в возможность этого Познания. Стало понятно, что такой грубый инструмент, как бутылка, в данном случае не просто неуместен - оскорбителен. Доказывать подобным фанатикам абсурдность их построений безнадежно - это, впрочем, было ясно еще до встречи с ниспровергателем. Оставалось одно: играть с новатором на его поле в его же игру. - Статья ваша очень интересна! - заявил я ниспровергателю с убежденностью, которая должна была снять любые подозрения моего собеседника в подвохе. - Настолько интересная, что мы должны сделать все, чтобы ваше открытие стало достоянием Родины. И её гордостью. Навсегда. Вы, конечно, уже направили заявку на открытие в Комитет по делам изобретений и открытий? - Н-н-нет... - удивился учитель труда. - А зачем? - Как - зачем?!! - удивился я, вложив в восклицание как можно больше испуга. - Ведь если это напечатают, а у вас не будет диплома об открытии, то американцы это в пять минут присвоят себе. И все уйдет к ним. - Что же делать? - всполошился учитель труда. - Не-мед-ленно заберите статью из журнала и посылайте в Москву, в Комитет! - решительно порекомендовал я, подло спихивая моего клиента другим инстанциям. - Когда же получите диплом, то немедленно - к нам, напечатаем сейчас же. В другой журнал не отдавайте. И запомните: пока не получите диплом, никому не слова - шпионов-то сколько - сами понимаете. - Спасибо! - проникновенно поблагодарил учитель меня, Иуду. - Конечно, это правильно. А, скажите, денег мне за открытие дадут? - Дадут, - с готовностью посулил я, быстро теряя в уважении к самородку. - Уж очень они мне нужны! - страстно заверил собеседник. - Тогда я смогу, наконец, построить микроскоп. - А зачем его строить? - удивился я. - За те деньги, какие вам отвалят за открытие, вы сможете купить любой микроскоп. - Любой? - снисходительно улыбнулся учитель труда моему невежеству. - Нет еще такого микроскопа, в который можно рассмотреть атомы. А я такой построю обязательно! - заверил он и показал две хороших честных рабочих руки. - Да, кстати, - спохватился новатор. - А какой из атомов легче всего рассмотреть в микроскоп? - Уран, конечно, а еще лучше плутоний, - посоветовал я и удалился. Вернувшись в редакцию с благой вестью и застав там на этот раз только ответственного секретаря Савелия Исааковича Спивака, сообщил ему о своей виктории, которую мы тут же отметили неизрасходованной бутылкой. И смеялись. Нам было весело. Но не зря, ох, не зря излагает на запредельных нотах певец Градский, что ничто в этой жизни не проходит бесследно. Через год-полтора, когда я уже забыл об этой истории, которую посчитал забавной, не более, ночью (!) раздался телефонный звонок. Голос, в котором металла было больше, чем в домне, сообщил, что говорят из республиканского Комитета государственной безопасности. И Комитету крайне нужно, чтобы я сейчас, именно сейчас, в половине третьего ночи к ним пожаловал, и что машина за мной уже выехала. Времена были, конечно, не те, что лет 30 назад. Но от этой конторы никто никогда ничего хорошего не ждал. Поэтому я стал одеваться, размышляя о том, следует ли мне прихватить с собой зубную щетку и бельишко. Извинения приехавшего за мной майора мало успокоили, ибо из самиздата все мы были хорошо знакомы с оттенками и подоплёками гебистского политеса. По прибытии в хорошо знакомое киевлянам здание на улице Владимирской я был введен в скучную комнату, где восседал некто в партикулярном, поздоровавшийся со мной весьма прохладно - чтобы не сказать холодно. Стало зябко. В тягостном молчании прошло минут пять, но тут дверь отворилась, и в комнату вошли двое: конвоир и некто, державший руки за спиной, в котором я признал создателя нового учения о строении материи. Я недоуменно на него уставился. - Вы встречались когда-нибудь с этим человеком? - со знакомыми по революционным фильмам модуляциями осведомился у меня хозяин кабинета. Я подтвердил, что да, встречался. - А ты этого человека знаешь? - показал на меня гебист. Учитель труда утвердительно кивнул. - Тогда назовите его фамилию! - предложил дзержинец учителю. Новатор, понятно, ответил, что не знает. Не знал, естественно, его реквизитов и я, так как, конечно, успел позабыть фамилию, значившуюся в статье и сопроводительных бумагах. Я ожидал, что хозяин сейчас станет обличать нас в запирательстве, но он бросил конвоиру: - Уведите! - и только когда за учителем затворилась дверь, предложил мне сесть. - Откуда вы знаете об уране и этом, как его ...плутонии? - огорошил меня начальник странноватым - назовём это так - вопросом. Я помолчал, не зная, что ответить. - Это с вашей подачи он ходил по киевским научным учреждениям, пытаясь выяснить, работают ли они со стратегическими материалами? Я сразу пошел "в сознанку" и с возможной краткостью описал чекисту историю нашего знакомства и признал, что действительно в конце нашего разговора, состоявшегося весьма давно, упоминал об уране и плутонии. - Вот именно это меня и интересует, откуда вам стало известно об уране и плутонии! - объяснил гражданин начальник причину любопытства к моей особе. - Из книжек... Книжек?! - насторожился гебист. - Каких это еще книжек? И как они к вам попали?? Тут уже настала очередь дивиться мне: - Таких книжек много, а как они ко мне попали, и не упомню. - А тех, кто вам их передал тоже подзабыли? Это кафкианство начало меня раздражать, и хотя в этой конторе давать волю эмоциям вроде бы не стоило, осведомился раздраженно: - Вы можете пояснить, что вам надо? - НАМ, - многозначительно выделил начальник местоимение, - НАМ надо знать, каким образом просочились в население сведения об уране и этом... как его, плутонии. - Сведения об уране и плутонии, - сказал я с понятным облегчением, - могли просочиться в население, например, через учебник Некрасова. - Некра-а-асова? - с радостным сарказмом протянул гражданин начальник. - Некра-а-асова? А Пушкин об этом ничего не писал? И до этого первого общения с чекистами я предполагал, что в этом ведомстве сидят не сократы и спинозы. Но радости от того, что гипотеза подтвердилась, не ощутил... Меня быстренько отвезли домой и привезли обратно с "Курсом общей химии" Б. В. Некрасова издания 1954 года. Под бдительным оком чекиста написал объяснение о том, что об уране и плутонии я узнал из этого учебника, а именно из текста на страницах 588-599 и 588-590. После чего был отпущен. Судьба новатора-самородка мне неизвестна, но хочется думать, что не посадили. Хотя?.. Рассказывал затем эту историю друзьям. Они смеялись. Смеялся, конечно, и я. Последним ли?.. |

|
|
Камешки из химико-мемуарной мозаики
I
Когда на втором курсе мы отрабатывали лабораторию качественного анализа, то в дополнение к доставшемуся от предыдущих курсов щелочному методу (подглядывать в щелочку, когда преподаватель смешивает в задачной колбе катионы и анионы) мы добавили еще ряд своих: Капельный (он же солевой) метод: завалив в шестой раз задачу, громко зареветь, вследствие чего обладающий даже минимальной интеллигентностью преподаватель сразу ставит зачет. Метод хорош, но не универсален, ибо может употребляться только женским полом. Метод "на холоду": воспользовавшись тем, что лаборатория качественного анализа находится на первом этаже, в то время как преподаватель в своем закутке готовит тебе задачу, выбежать во двор и прильнуть к окну. "По Фингеру": вложить палец (по-немецки Finger - палец) в рот и высосать ответ. "По Стелю": взять с потолка (по-украински - стеля). Оба метода давали неплохие результаты чаще, чем можно было бы представить. "Роданидный" метод: плюнуть и отправиться в кино (в слюне содержится некоторое количество роданида). "Контактный" , он же "халатный" метод: воспользовавшись тем, что преподаватель отправился в буфет, подбежать к брошенному им на стул халату, залезть в карман и вытащить записную книжку. Наконец, метод, доступный только натурам безусловно и категорически артистичным: заваливая задачу, притворяться идиотом, желательно клиническим, и делать это до тех пор, пока преподавателю не станет ясно, что единственный выход - поставить этому дебилу зачет. Название метода приводить не стоит. Очень уж любопытствующие могут определить это название, проделав несложную, без наркоза, хирургическую операцию со словом "потенциометрический"... II
1953-й год. После четвертого курса прохожу практикум на Славянском содовом комбинате, на который нас, университетских, неизвестно зачем послали. Цех каустика (едкого натра). Однажды в конце смены всех, в том числе и нас, сгоняют, на профсоюзное собрание цеха. Начальник цеха в выражениях, которые свидетельствуют об отсутствии у него дипломатического образования, кроет коллектив, а пуще главного технолога. Оказывается, ОТК стал часто браковать конечный продукт из-за повышенного содержания в нем соды. - Причем не понятно то, - волнуется начальник цеха, - что брак идет неравномерно по сменам. В одной смене все в порядке, а потом другая смена через каких-нибудь часа четыре гонит брак. Начальники смен, бия себя по негнущимся спецовкам, заверяют, что всё выполняют, не отходя ни на миллиметр от буквы и духа регламента. Оратор, подгоняемый крутыми репликами главного инженера, по-пролетарски доходчиво разъясняет, что будет с теми сменами, которые будут катить брак. С тем и расходимся. На следующий день я обратил внимание на уже примелькавшуюся картину. Лаборантка цеховой лаборатории Людочка, сильно влиявшая на производительность труда халатиком, на котором была лишь одна не всегда застёгнутая пуговица, набирала в ковшики пробы расплавленного каустика и останавливалась у соседнего участка. Причина задержки - аппаратчик Федя, с которым Людочка начинала привычную игру: Федя пытался ее ущипнуть, где пораспахнутее, а Людочка, держа в каждой руке по пятку джезв с раскаленным расплавом, увертывалась. Игра нравилась обоим и длилась минут сорок, пока Федя с сожалением не принимался за выпуск очередной порции плава. Я же взятые в лаборатории бюкс с притертой крышкой и ковшик для забора расплава заполнял выходящим из аппарата плавом. Через промежуток времени, равный примерно времени игрищ лаборантки с аппаратчиком, я отправляюсь в лабораторию и оттитровываю содержимое на соду. Результаты оказываются разительными: в бюксе 0.3%, в ковшике - 1.7 %. Удивляться нечему: участок Феди находится аккурат над котельной. Тут же оформляю рационализаторское предложение: забор плавов проводить не в ковшики, а в бюксы. Рацуху горделиво подкрепляю уравнением: NaOH + CO2 = Na2CO3..
Через полгода за рацпредложение получаю по почте перевод на 600, понятно, дореформенных рублей. Редко когда мне удавалось в жизни так легко зарабатывать деньги. III
1956 год. В лаборатории бывшего Силикатного института, а ныне силикатного корпуса Киевского политехнического института гоняю термостаты: заканчиваю эксперимент по кандидатской. Поздний вечер - близко к полуночи. В корпусе, кроме меня, только дежурный в вестибюле. Стук в дверь и в лаборатории появляется майор. Вид у офицера сильно загнанный и удрученный. Не очень удивляюсь, так как уже бывало, и не раз, что вечерами ко мне жаловали всякие личности с просьбами о спирте. И действительно - майор с отчаянием и мольбою восклицает, почти кричит: - Умоляю - выручите!! Видать, служивому здорово захотелось выпить. В таких случаях грешно отказывать, и я тянусь к бутылке со спиртом. Но тут майор выдает нечто совсем неожиданное: - Пожалуйста, мерную колбу на пол-литра! - ??? Черт знает что: полночь... майор... мерная колба... Однако визитер тут же словоохотливо рассеивает мое недоумение. Мистика объясняется прозаически просто. Офицер прибежал ко мне с расположенной рядом, через два дома, колбасной фабрики. Работа у него такая: раз в неделю он специальным самолетом из Москвы прилетает в Киев на колбасную фабрику N 4, где готовят для Хрущева знаменитую в свое время "домашнюю" колбасу. Майор обязан лично проследить за всем технологическим циклом, начиная от анализа свиной туши и кончая закладыванием залитых топленым салом кругов колбасы в кувшин. При этом на каждом из этапов проводятся необходимые исследования. И вот на одном из таких этапов сонная лаборантка роняет на пол единственную мерную колбу. Колба разбивается вдребезги вместе с майоровой карьерой, так как колбаса завтра утром должна быть на столе генерального секретаря Коммунистической партии Советского Союза, а без сертификата кремлевская обслуга колбасу к хрущевскому завтраку не допустит. Спасаю Майорову судьбу. Таких преданно устремленных на меня очей мне в моей жизни более уже никогда видеть не доводилось... IV
60-е годы. Однажды вечером меня истерическим звонком вызывают в Минск: на заводе, где внедрена наша технология, военпред зарезал всю партию изделий. Вылетаю первым утренним самолетом, так как дело и впрямь нешуточное. Выясняется вот что. Накануне ночью в цех внезапно заявился военпред и, проверяя соответствие технологии регламенту, наткнулся на то, что в регламенте в перечне компонентов раствора написано "красная кровяная соль", а на банке реактива значится совсем другое - "железосинеродистый калий". Военпред остановил конвейер и зарубил недельную продукцию цеха, а с ней - планы и премии всего завода. Взор излагающего мне диспозицию главного технолога струится невыразимой тоской и не высказываемой, но легко читаемой клятвой больше никогда и ни при каких обстоятельствах не связываться с проклятыми химиками. Иду к военпреду, захватив две банки с реактивом от разных заводов, и показываю, что на обеих стоит одна и та же формула - K3[Fe(CN) 6]. - Что ты мне эти закорючки суешь?! - отшивает меня полковник. - Когда там не сработает, я им твои банки буду показывать? Похоже, что колонель по-своему прав. Но делать-то что-то нужно, и я иду в Институт неорганической химии к хорошо знакомому мне белорусскому академику Е. - Николай Федорович, - говорю я, - у вас есть именной бланк, где были бы обозначены все ваши регалии? Если есть, напишите мне, что красная кровяная соль и железосинеродистый калий [K1] это одно и то же. Николай Федорович смотрит на меня долгим сочувственным взглядом и предлагает мне отправиться к нему домой и отдохнуть. Поясняю ситуацию. Академик тут же принимается за справку, но пишет ее долго, так как его сотрясают приступы хохота. Заверяю справку печатью в канцелярии института и несу ее к военпреду. Прочитав, тот кладет ее в одну из папок и удовлетворенно говорит: - Совсем другое дело, а теперь и выпить можно! Отчего же нельзя?.. V
Первая половина 70-х. В ленинградском отделении издательства "Химия" готовится к выходу моя книга. Перед самым подписанием книги в печать меня вызывает издательский редактор и просит срочно исправить некоторые выражения, которые отметил цензор Главлита. Из того, что не понравилось цензору, запомнил: "...сдвигается вправо...", "...производство энтропии неуклонно уменьшается..." Слова же "неустойчивое равновесие" и вовсе были подчеркнуты, а на полях стоял восклицательный знак. Пришлось исправлять, так как редактор сказал, что с этой конторой спорить бесполезно. Не помню где, кажется, у Корнея Чуковского читал о притеснениях и самодурстве петербургской цензуры начала века. Детский сад. VI
Читая статьи в научной периодике, можно подчас узнать неожиданное. Еще в 50-х годах я заинтересовался статьями югославского химика Панте Т-ча, человека немолодого. В начале 50-х среди его соавторов в статьях появилась некая Милица Л-р. Прошел год-полтора, и новая серия статей вышла под авторством "Панте Т-ча и Милицы Т-ч", а спустя пару выпусков журнала авторами уже значились "Милица Т-ч и Панте Т-ч". Увы, скоро это соавторство прекратилось, ибо в очередной совместной статье после имени Панте Т-ча стоял трефовый туз, что в западной научной периодике означает перемещение автора работы в мир иной. Следующая статья этого цикла была подписана лишь одной Милицей Т-ч, после чего имя мадам в югославском журнале более не появлялась. Всплыла она года через три в Канаде, где начала печататься с маститым химиком R.G-I. Надо полагать, что Милица была хороша собой и умела этим обстоятельством распоряжаться. Так или иначе, но тандем "R.G-i and Milica T-ch" с непостижимой для пуританской Канады скоростью трансформировался в "R.G-i and Milica R.G-i". Стоит ли говорить, что еще через год-полтора уважаемый R.G-i составил компанию П.Т-чу? Вдова же исчезла с химического горизонта и больше не печаталась. А может быть, еще раз сменила фамилию? Хороша эта история еще и тем, что ее можно обрамлять в различные интонации: нравоучительные, назидательные, юмористические, можно даже подпустить легонькую скабрезинку... VII
Где-то в конце 60-х сумеречные головы из украинского Минвуза, ошалев, решили, что вузы должны представлять им для утверждения планы научной работы. В один прекрасный день был вызван к ректору Плыгунову, который, недоуменно пожимая плечами, сказал: - Нич-ч-ч-его не понимаю. Все химические темы, кроме одной, в Министерстве зарубили. Чем они могли им не понравится - ума не приложу. И чем утвержденная тема лучше других? Поезжай туда и выясни, какого рожна им надо. Поехал. Химией в Управлении научных работ Министерства ведал какой-то хрыч, судя по кашляющему мату, которым он перемежал каждое слово - отставник, а по ниспадавшим брылам, которые вызвали бы бурное восхищение в правлении клуба собаководов - бывший полковник, не меньше. Я расстелил перед ним простыни с научной тематикой и полюбопытствовал, чем понравившаяся Минвузу тема отличается от остальных, отвергнутых. - Ха! - усмехнулся хрыч моей непонятливости. - Смотри! - ткнул он щербатым ногтем в утвержденную тему, - читай: "Комплексные соединения меди с моноэтаноламином". Понял: комплексные! Партия как учит нас? Комп-лек-сно подходить к решению задач. Вот и подходите! VIII
В начале 70-х внедряем на одном из украинских заводов технологию получения цианата натрия (не путать с цианидом!) высокой степени чистоты. При лабораторных исследованиях выяснилось, что для перекристаллизации продукта подходят только: а) метанол; б) этанол; в) ацетон. При разработке же уже непосредственно заводских регламентов оказалось, что против "а" категорически возражает санэпидстанция; на "б" накладывает табу милиция (кражи спирта и обратно же - пьяные эксцессы); наконец, "в" отвергает пожарная инспекция. Таким образом, упало и пропало все - и на трубе, пардон, в реакторе не остается ничего. Грустно совещаемся в кабинете директора, обсуждая все тот же вопрос: "что делать?" - Да, - вдруг спохватывается директор, - а у Петровича, как я помню, ацетон цистернами льется. Тут же с главным инженером отправляемся к Петровичу - директору соседнего завода. Веселый крупнотоннажный Григорий Петрович улыбается и говорит: - Чего ж соседям совет не дать? Дам, и даже без бутылки, хотя с бутылкой оно будет ядренее. Вы, дурни, в регламенте, который пожарникам сунули, так, конечно, и написали - ацетон? - А что ж еще писать? - недоумеваю я. - Ди-метил-кар-би-нол!!! - отчеканивает Петрович (название того же этанола, исходя из химической структуры) [K2]. - Ну и что с того? - замечаю я снисходительно. - Что в лоб, что по лбу!.. - Дурень, он дурень и есть! - необидно, даже ласково бросает мне директор. - Это для тебя одно и то же. А у пожарников в их списке никакого диметилкарбинола на дух не значится. - Ну, вы даете! - восхитился я и польстил: - Сразу видно, что по органике в институте пятерку не зря получали. - Ага, - согласился Петрович. - Не зря. Только я окончил техникум гостиничного хозяйства. IX
Не так давно мне довелось ознакомиться с оригиналом доноса доцента нашего института Н., посланного в 1937 году в НКВД. Жертвой оказался заведующий кафедрой профессор HAT, один из ярких представителей отечественной аналитической химии. Доцент сообщал, что принадлежащий перу HAT учебник по весовому анализу нашпигован хулиганскими антисоветскими выпадами. Донос был отнюдь не голословен. Доказательством служила фраза: "Это снижает точность анализа литиевых и натриевых сплавов, увеличивая как азотные, так и кислородные загрязнения". Доносчик предложил чекистам прочитать первые буквы, начиная со слова "снижает" и кончая словом "азотные". Профессор спасся, сбежав в 1937 году из Киева на Урал. Доцент Н. жил долго и умер в своей постели. |

|
|
ЗАРУБЕЖ |
|
Да, это был тот самый 1956-й год, когда совдепия окончательно смахнула с себя последние остатки топорного макияжа и явила миру свое злобно-тупое рыло, оккупировав Венгрию. Впрочем, моя поездка в Венгрию произошла ранее ноябрьских событий, в июне.
Туристская группа, отправившаяся из Киева в Венгрию, состояла из двадцати четырех украинских писателей и их жен. Попал я в эту группу, конечно, случайно. Прослышав где-то, что Облсовпроф начал заниматься заграничным туризмом, я на всякий случай подал заявление и скромную анкету (анкеты-фолианты для зарубежных вояжей появились позже, а лет через пять ввели и характеристики-рекомендации). Разумеется, ни малейшей надежды попасть в число счастливцев у меня не было. Но ведь выбрасывали же мы в свое время 30 копеек ради удовольствия ждать выигрыша "Волги". И тут мне в первый и в последний раз в жизни повезло в лотерейной игре. В одно прекрасное утро мне позвонили и спросили, могу ли я завтра, именно завтра, отбыть в Венгрию. Если да - то мне надлежит в течение часа внести в кассу деньги, а вечером явиться на собеседование. Вечером прояснилась причина столь неожиданного благоволения ко мне судьбы и туристского ведомства. Оказалось, что туристскую группу формировал Союз писателей, но, как это водится, в последний момент кто-то не смог поехать. А там - уж не знаю - то ли других претендентов не нашлось, что маловероятно, то ли судьба решила мне улыбнуться, но Облсовпроф брешь заполнил мною. Выехали мы на следующий день. Размещением в вагоне, как и всем остальным, занимался руководитель группы - секретарь парткома Союза писателей Герой Советского Союза, получивший Звезду где-то в партизанах. Беспрестанно поправляя клок волос, спадавший на не очень широкий лоб, начальник зычно командовал, перетасовывая из купе в купе смиренно молчавшую писательскую паству. В результате пасьянса, разложенного Героем, я очутился в купе на нижней полке. Соседкой по купе была весьма пожилая дама, которой начальник отвел верхотуру и которая оказалась писательницей Агатой Федоровной Турчинской. Я тут же, не испросив разрешения у Руководителя, предложил ей перейти вниз, на что она не без робости согласилась. То ли из-за не тривиального для широких кругов украинского письменства шага, то ли узрев во мне свежего слушателя, Агата Федоровна, не дав мне даже пристроить сумку, принялась рассказывать, зачем её на старости лет понесло в чужие страны. В отличие от ее беззаботных коллег Турчинскую влекло в Венгрию Дело. В те дни Агата Федоровна была поглощена сотворением либретто оперы "Милана", которую она писала для "гада Гришки". Столь нелестно писательница отзывалась о композиторе Григории Илларионовиче Майбороде - родном брате знаменитого песенника. "Гришка", твердо зная, что в классических операх главный герой должен кончить плохо (Радамеса замуровали, Герман закололся, Тараса Бульбу спалили...), вознамерился порешить героиню оперы Милану. Агата же, будучи, несмотря на преклонный возраст, решительной сторонницей соцреализма, считала, что в опере, как и в нашей жизни, все должно кончаться хорошо и ни за что не отдавала Милану садисту-композитору. Конфликт был перенесен в ЦК КПУ, которому, как известно, было дело до всего. Судьба полонянки решалась в сумрачном здании на Банковой, и Милане была дарована жизнь. Но для закручивания сюжета Турчинская посадила Милану в тюрьму, из которой под ликующие звуки духовых ее должна была вызволить армия-освободительница. Так вот, будучи, повторяю, последовательной соцреалисткой, Агата Федоровна должна была посмотреть и, так сказать, пощупать в натуре венгерскую тюрьму, именно венгерскую и никакую другую, ибо оперные события происходили в военные годы в той части Закарпатья, где орудовали усташи. Забегая вперед, замечу, что не успели мы выгрузиться на будапештском вокзале, как Агата стала приставать к каждому из зевак, которые столпились поглазеть на живописную группу украинских литераторов с женами и поклажей: - Скажіть, будь ласка, а як пройти до міських гратів? Зеваки жестами показывали, что они не понимают, о чем спрашивает у них почтенная дама. Все последующие дни начинались с того, что Агата бросалась к бледневшему от ее вида гиду с криком: - Благаю, поведіть мене до гратів! Вопль с каждым днем становился все отчаяннее, ибо время утекало, и Агата начинала подозревать, что она так и покинет Венгрию, не побывав в тюрьме. Письменство веселилось, вертя за спиной у бабушки пальцем у виска. Но смеяться последней было суждено все же Агате Федоровне. Как-то утром, несмотря на глухое, но упорное сопротивление письменства, группу приволокли в музей истории венгерского рабочего движения. И там - о счастье! - в экспозиции оказалась перенесенная из какой-то каталажки камера, в которой некогда сидел Матиас Ракоши. Бабушка, которой удача придала резвость, нырнула под шнур, уселась на нары, и сразу стало очевидно, что её отсюда не уведет даже спецотряд будапештской полиции. Но полиция занималась другими делами, и Агата Федоровна все последующие утра после завтрака брала свой внушительных размеров ридикюль и отправлялась вживаться в обстановку. На первую ступень своей будапештской карьеры я поднялся сразу по приезде - уже на вокзале. Нашу группу никто не встретил, хотя провожавшая нас в Киеве сотрудница "Интуриста" радостно уверяла, что послала в Будапешт две телеграммы. Писатели требовательно глядели на Руководителя, но его партизанско-секретарский опыт не подсказывал ему, как выйти из положения. Он, правда, пытался жестами объясниться с кем-то из железнодорожных служивых - не то с начальником станции, не то носильщиком - но понят не был. Часа через полтора я уразумел, что надо спасаться методом самообслуживания. Прошел в чей-то служебный кабинет и на единственном иностранном языке, который я тогда знал, на немецком, попросил разрешения поговорить по телефону с туристской фирмой, которая должна была нас принимать, и помочь найти телефон этой фирмы. Как выяснилось впоследствии, в то время в Венгрии было еще весьма много людей, говоривших - и уж, во всяком случае, понимавших по-немецки (когда я побывал в Венгрии вторично, в 87-м году, таких людей было уже значительно меньше). Связаться с нашими потенциальными хозяевами удалось быстро (оказывается, никаких телеграмм они не получали, да и никто их, конечно, не посылал), и через каких-нибудь двадцать минут мы в туристском автобусе уже следовали в гостиницу. Привезли нас в самую роскошную в то время будапештскую гостиницу "Геллерт". Впоследствии я не раз видел эту гостиницу в телевизионных репортажах - именно там живали многие государственные гости, посещавшие Венгрию. Чем было вызвано такое к нам внимание - пиететом к украинской литературе, тем ли, что наша группа была третьей в истории советско-венгерского туризма и первой в истории украинско-венгерского - не знаю. В гостинице нас развели по номерам, роскошным, с туалетными комнатами, выложенными голубым кафелем габсбурских времен, дали на приведение в порядок полчаса, после чего мы должны были отправиться вкушать обед в гостиничном ресторане. Сполоснувшись, на что ушло минут пятнадцать, я натянул свежую рубашку и созерцал из окна роскошный вид на противоположный берег Дуная с величавым парламентом. И тут я услышал доносящийся из коридора мат. Но мат!!! Некто выдавал такие рулады и проклинал гостиничное начальство такими замысловатыми периодами, что меня немедленно вынесло в коридор. В коридоре, окруженный толпой гостиничной обслуги и соотечественниками, потрясал кулаками и выдавал в окружающую среду образцы высокого мата наш руководитель. Начальник был совершенно мокр, с его волос стекала на мокрую же майку вода, и кричал он примерно следующее (вариации опускаются): - Провокація! Це навмисно! Ми цього не залишимо! Негайно повертаємося до Київа!!! В разгар этого opa начальник заметил меня. Решив после вокзального эпизода, что именно с моей помощью он будет объясняться с гостиничными провокаторами, Герой схватил меня за руку и потащил в свой номер, приговаривая: - Дивись, Юрко, яка сволота! Вирішили взяти на понт! Мене?! Тая ж їх!.. Номера наши, как я уже заметил, были богатыми. Но апартаменты, отведенные руководителю, были королевскими. Необъятная комната - которую он, впрочем, не дал мне даже окинуть взором, так как сразу поволок в ванную комнату. Такие храмы неги я впоследствии видел в американских "белотелефонных" фильмах: розовый кафель, ванна, утопленная в полу, и много всего другого... Но Герой целеустремленно тащил меня в угол туалетного помещения и ткнул пальцем в прибор, категорически предназначавшийся только дамам. - Ось, що вони мені підсунули! Стій тут і будь свідком, а я телефоную в посольство, щоб вони приїхали і побачили, яки фортелі тут з нами викидують! Я удержал Героя от стремления пустить случившееся с ним по дипломатической линии, спросив, что же все-таки произошло. Выяснилось, что бывший партизан, зайдя в ванную комнату, стал осматривать предметы, которых он прежде не видел. Назначение большинства из них он все же пытливым разумом мог постигнуть. Но когда он добрел до вышеозначенного прибора, то стал в тупик. Принялся нажимать кнопки, и вдруг вода, которая в изделиях такой формы всегда текла вниз, здесь поднялась тугими струйками и окатила его с головы до пояса. Одномерное мировоззрение писательского партийного секретаря тут же привело его к выводу о происках мирового империализма, о чем он, выбежав в коридор, оповестил гостиницу и окрестности. Пришлось инженеру человеческих душ разъяснить назначение прибора, после чего его гнев полярно сменился довольным гоготом Изумления и Познания. - Дивись, - хлопал он себя по полосатым пижамным брюкам, - дивись, що вони вигадали! А я ж без дружини! Скажи їм - хай згвинтять до бісової мами, го-го! В результате этого происшествия партсекретарь зарядился сильной подозрительностью по отношению к туалетным комнатам и при желании во время автобусных переездов посетить придорожный туалет, настойчиво просил, чтобы я сопровождал его. Теперь ничто не мешало нам отправиться трапезничать. Нас ввели в ресторанную залу. В зеркальном потолке отражались бесчисленные люстры и мы, стоящие верх ногами. Писатель Иван Ц. посмотрел на потолок и вдохновился: - От гарно через ту стелю дівчатам під сукню зазирати! Мэтр ресторана, похожий на Мак-Дональда, подвел нас к пиршественному столу. Громадное овальное сооружение занимало весь центр залы. На нем стояло 25 приборов - тарелки и многочисленные ножи и вилки, некоторые весьма замысловатой формы. Тут же показалась предводительствуемая мэтром кавалькада дипломатов, которые несли что-то с торжественностью храмовых служителей. Этим "что-то" оказались облупленные крутые яйца, которые они с такой же молчаливой помпезностью выложили по одному на тарелку каждому из нас и удалились. Писатели обменялись взглядами, синхронно пожали плечами и, исходя из того, что каждое даяние - благо, тут же умяли выданное. Спустя пару минут снова появилась колонна официантов, каждый из которых трепетно нес супницу с консоме. Подойдя и узрев пустые тарелки, мэтр на долю секунды застыл, тут же развернулся и отправился в сторону кулис. Кавалькада последовала за ним. Через какое-то время официанты появились снова и снова выдали каждому по яйцу. Письменство, руководствуясь вышеприведенной библейской мудростью, мгновенно справилось и с этим даром. Снова возникли официанты и тупо уставились на пустые тарелки, вопросительно поглядывая на мэтра. Тот махнул рукой, и официанты разлили пустой бульон, который писатели, тем не менее, употребили с добрым аппетитом. На следующее утро при обсуждении программы дня письменство впервые и очень серьезно разругалось - с криком и переходом на личности. Турфирма предлагала автобусную прогулку по центру Будапешта. Письменство, катализируемое женами и подогреваемое выданными форинтами, ничего не имело против центра, но желало знакомиться с ним путем свободного пешего хождения по магазинам. Начальник же стальным тоном заявил, что никаких центров он знать не знает, и что первый наш выход будет к памятнику Ленину, для чего следует собрать с каждого по пять форинтов для венка. Понятно, что возобладала его точка зрения. Начальника и нас повезли к Ильичу, заехав по пути на рынок за цветами. Руководитель в автобусе сидел в первом ряду и своим толстым затылком не мог ощущать взгляды, которыми его прошивали братья-писатели. С задних рядов неслись по адресу партийного секретаря определения, смачность которых доказывала, что в автобусе действительно находятся художники слова. В следующие пару дней, взбухали аналогичные коллизии, в результате чего в группе возникла ситуация "все против всех". Никто не разговаривал ни с кем. Только я, внепартийный, был одинаково ровен со всеми, и именно это поставило меня в центр группы. Стиль установился примерно такой. Некто подходил ко мне и, кивком указывая на товарища по группе, говорил нарочито громко: - Скажи отому ... щоб він після обіду не запізднювався на екскурсію, як вчора. Ми на нього не чекатимо, а поїдемо самі. Я подходил к нему и, хотя это было не нужно, транслировал ему пожелания коллеги, облекая их в более или менее приемлемую форму. И тут же получал поручение: - А ты, Юрко, скажи цьому ... що, по-перше, він сам - ..., а по-друге, порадь цьому ..., щоб він сам себе дисциплинував! Немудрено, что в этой ситуации реальная власть мало-помалу перешла ко мне. Я согласовывал с членами группы различные вопросы, объявлял им распорядок дня, передавал пожелания гидов и транслировал их пожелания к туристскому начальству. Однако все эти разногласия оказались лишь легкой разминкой по сравнению с тем, что произошло, когда однажды за обедом гидесса, радостно улыбаясь, сообщила, что наконец-то получено разрешение и вечером мы посетим Большие Королевские Подвалы, где нас будут угощать коллекционными винами. Раздался ликующий степной крик письменства. Но тут воздвигся начальник и сказал твёрдо: - Ми нікуди не пій-де-мо! Ні в які підвали! Вот здесь уже секретарь парткома перегнул палку. Да и то сказать - комната заседаний парткома Союза писателей была далеко. Письменство обступило руководителя, и со всех сторон ему стали тыкать в физиономию дули - толстые и волосатые инженеров человеческих душ и маленькие ладненько-крепенькие их жен. Партсекретарь повернулся и вышел. Вечером в автобусе, который вез нас в Подвалы, руководителя не было. Победа настолько воодушевила писательский пролетариат, что туристы, позабыв на этот вечер о распрях, дружно затянули "Несла Галя воду...", и я смог временно сложить с себя административные вериги. Посещение Подвалов и впрямь запомнилось. Начать с того, что каждому из нас предложили вино его рода рождения! И хотя я был самым молодым в группе, херес 31-го года оказался великолепным. Потом мы пробовали еще много чего другого. По окончании мероприятия оказалось, что партсекретарь был категорически и стопроцентно прав: посещать Подвалы с дармовой и неограниченной выпивкой письменству не следовало. Очень скоро автобус, поджидавший группу у входа в Подвалы, стал напоминать катафалк. Лишь очень немногие вышли из Подвалов своим ходом. Большинство же я вместе с сохранившими относительную форму писательскими спутницами жизни выволакивал из государственного хранилища вин и размещал штабелями в автобусе. Начальник, по-снайперски точно предугадавший исход коллективной выпивки, встречал нас у входа в гостиницу. Наутро, за завтраком, руководитель торжествующе предрекал - каждому отдельно - с какой степенью дотошности персональное дело того будет рассматриваться по возращении в Киев. Тут надобно отметить одно обстоятельство. Мои согруппники каждый вечер заливали себя привезенными из Киева запасами, результаты чего наутро прочитывались на их мающихся привычным похмельем физиономиях. Начальник же все время ходил как стеклышко, что, в общем, было нетривиально, ибо его облик - и внешний и, особенно, внутренний - не предполагал в нем поборника трезвости. Наступило время возвращаться. Местным поездом мы приехали в Чоп и, пройдя таможенный контроль, направились к зарезервированному для нас вагону поезда Чоп-Москва. Однако погрузиться нам не разрешили: по существующему тогда правилу на всю группу выписывался один билет, который хранился у руководителя группы. У него же хранилась сберкнижка со всеми нашими сбережениями, захваченными в дорогу. В те времена за границу нельзя было перевозить даже одного рубля. Поэтому пересекающие государственный кордон должны были сдавать деньги в привокзальную сберкассу. У туристов же деньги собирал руководитель и для упрощения, а также ускорения дела клал их на один счет на свое имя. И вот до отхода поезда остается каких-нибудь 10-12 минут, однако нет ни начальника, ни тем более - проездных документов. Стали бегать по вокзалу, заглядывали в сберкассу, на почту, даже в станционный туалет: руководитель непонятно, загадочно дематериализовался. Предаваться мистике было некогда, и поэтому я снова взял управление на себя и скомандовал всем мужчинам еще раз рысью пробежаться по возможным и невозможным местам предполагаемой дислокации руководителя. Когда я, задыхаясь, вбежал на второй этаж вокзала, где помещался ресторан, то сразу у входа в него обнаружил начальника. При самом добром отношении к Герою никак нельзя было применить местоимение "кто". Какое там - "кто"?! Только "что", категорическое "что"! Потому что хорошо обтесанное бревно могло казаться более живым и подвижным, чем партийный секретарь. Стало понятно многое. Внушающим априорное уважение усилием воли начальник в Венгрии держал себя в своих партизанских руках. И как только пересек границу, позволил себе нарушить столь затянувшийся пост. Я кликнул подмогу, и мы потащили оказавшегося весьма увесистым Героя к поезду. У вагона я залез к нему в карман, вытащил билет, и нам позволили занять места. На высвобождение денег времени уже не оставалось, да и не дали бы нам этих денег. Для этого требовался руководитель в состоянии хотя бы минимальной дееспособности. Поезд тронулся. И хотя нам предстояло провести ночь на жестких полках, так как постель получить из-за отсутствия денег было невозможно, писатели и их жены ликовали. Никогда - ни до того, ни после - мне не довелось видеть письменство в таком праздничном состоянии. Потрясая кулаками над бесчувственным телом партсекретаря, писатели предвкушали, какую великолепную "телегу" накатают они в партком по поводу безнравственного поведения партшефа и какие "кровя" ему по этому поводу пустят. Я же, одолжив у проводника пятерку, дал из Мукачево телеграмму во Львов профессору Крамаренко, чтобы он встретил наш поезд, имея пятьсот рублей. В три часа ночи встревоженный Василий Филиппович на залитой дождем платформе вручил мне требуемую сумму, я роздал деньги вконец измаявшимся жесткостью полок туристам и весь вагон забылся во сне. Наутро пришедший в себя партсекретарь сидел тихо в купе и, не отрываясь, смотрел в окно. Проснувшиеся писатели, в отличие от вчерашнего, вели себя куда миролюбивее. Пара вольтерьянцев еще шумела в тамбуре, но по мере приближения к Киеву затихли и они. На перроне в Киеве мы снова увидели прежнего партсекретаря. Руководитель командовал выгрузкой легко и лихо. При этом он пристально вглядывался в глаза каждого покидающего вагон. Тот же старательно и смиренно очи отводил... * * *
А на оперу "Милана" я так и не удосужился сходить и не знаю, как выглядели на сцене "угорські грати". |
|
Где-то в начале 73-го года мне позвонил писатель Владимир Владко и сказал, что в польском библиографическом журнале он обнаружил статью о польском переводе моей книги "Ядро - выстрел!", в которой сообщалась, что книга получила первую премию на конкурсе книг для молодежи.
Звонок Владко был приятен по многим причинам. Прежде всего - его внимание. Научно-фантастическими повестями Владко я увлекался еще школьником. Помнится, что после возвращения из эвакуации, когда стало ясно, что с украинским языком у меня неважно, я по своей инициативе стал настойчиво читать украинские книги, начав как раз с Владко. Во-вторых, интересна была информация о том, что "Ядро" перевели и в Польше. В то доконвенционное время (Советский Союз вошел в конвенцию о переводах лишь в мае 73-го года и поэтому за границей наши книги переводили, не уведомляя ни издательство, ни автора - точно так, как поступали с книгами иностранцев и у нас). В-третьих, конечно, было приятно, что книгу оценили. Получив от Владко журнал, отыскал статью и поначалу был озадачен ее названием: "О химии как Хичкок". Имя этого кинорежиссера, картин которого, понятно, мы не видели, но которого часто и со смаком хулили в советской прессе, связывалось с фильмами ужасов. Однако выяснилось, что автор статьи этим названием хотел подчеркнуть увлекательность книги. О гонораре речи быть не могло: время, повторяю, было доконвенционное. Но кто-то просветил меня, заверив, что премию дать должны. Я запросил издательство и довольно скоро получил максимально любезный ответ, что премию в размере двух тысяч злотых мне будут рады вручить, если только я лично пожалую в Варшаву Написал им, что для приезда в Польшу требуется официальное приглашение, и дней через десять получил и его. Можно было ехать. Не желая более обременять собою и без того щедрое издательство, написал в Варшаву Бруно Лянгу, что предполагаю дней на пять - шесть приехать и прошу его забронировать мне место в гостинице, ибо, будучи облагодетельствованным издательством, могу позволить себе пороскошествовать от щедрот польских. Тут надо пояснить обстоятельства моего знакомства с профессором Варшавского университета Лянгом. Знакомство было заочным, эпистолярным. За несколько лет до этого Лянг обратился ко мне с какими-то вопросами по поводу моих работ по вязкости. Я ответил. Завязалась переписка, облегчавшаяся тем, что пан Бруно превосходно владел русским языком, изучив его при обстоятельствах, о которых будет рассказано далее. Лянг ответил мне, что просьбу мою выполнить он не может по ряду причин. Во-первых, гостиниц в Варшаве очень мало и заполучить в них комнату не в его силах. Во-вторых, моих двух тысяч злотых в лучшем случае хватит на три дня, да и то лишь в самой скромной гостинице. А в-третьих, почему бы мне ни поселиться у него. У них с женой большая трехкомнатная квартира, сыновья давно живут отдельно, и они с пани Фредой будут рады видеть меня своим гостем. Морочить голову человеку, с которым был знаком только по письмам, было, конечно, неловко, но уж очень хотелось съездить в Польшу, и я согласился на постой у Лянгов. Поскольку я не запомнил обстоятельств оформления документов на выезд, надо полагать, что оно прошло гладко. Следует только подчеркнуть, что так как в приглашении издательства значилось, что я еду в Варшаву за премией, то на разрешении ОВИРа был поставлен штамп "без права обмена денег". Таким образом, я был лишен возможности обменять даже те сиротские 15 рублей за день пребывания, которыми мог располагать советский человек, едущий в социалистическую заграницу по частному приглашению. Будучи же рабски законопослушен и интеллигентски трепеща перед бдительностью стражей границ, остерегся положить в карман хотя бы несколько десяток, которые, как выяснилось уже в Варшаве, можно было бы без предъявления документов поменять в любом универмаге. Хуже того, выехал в пятницу и приехал в Варшаву в субботу. А почему хуже, сейчас станет ясно. Пан Бруно встретил меня на вокзале Варшава Гданьская. Оказался человеком в возрасте - лет на 20 старше меня. Познакомились, так сказать, визуально. Лянг отвел меня в вокзальное кафе и за чашкой кофе сказал, что мы сейчас поедем к нему, но он вынужден извиниться за то, что жена и он не смогут уделить мне то внимание, на какое я имею основания рассчитывать, так как сегодня ночью "скорая помощь" увезла тещу в весьма тяжелом состоянии, и супруги Лянги будут отвлечены этим обстоятельством. Когда мы приехали к Лянгам, я увидел, что пани действительно сильно встревожена болезнью матери - то и дело отлучалась наводить справки по телефону и каждый раз возвращалась все более грустной. Тревога была тем более основательной, что, судя по возрасту пани Фреды, ее мать пребывала в годах достаточно преклонных. Не успели мы сесть ужинать, как раздался звонок из госпиталя, и сообщили, что тёщи Лянга уже нет... Началось то, что сопровождает события такого рода. Плачу пани Фреды вторил пан Бруно. Очень скоро в квартире появились взрослые внуки. Видимо, покойница была хорошим человеком, так как внуки и их жены рыдали наравне с Лянгами. И очень неуютно было мне. Посторонний человек в такой обстановке более чем лишний. Практически же незнакомый да еще иностранец - это уже бревно в глазу. А если глаз к тому же еще заплаканный, то... Стало очевидным, что следует удалиться, и чем быстрее, тем лучше. И не сказав ни слова рыдающей семье - они меня, конечно, уговаривали бы остаться, но от этого я не стал бы для них меньшей обузой, - я накинул плащ и налегке вышел в ночную Варшаву. Ситуация была из невеселых. Идти на вокзал, чтобы пересидеть до утра, было бессмысленно: знал, что в Варшаве, как и почти во всей Европе, ночью вокзалы не функционируют. А если бы даже и досидел до утра - что потом? Ходить по улицам - и того хуже: моё воображение вконец замордованного предвыездными инструкциями советского обывателя представило себе полицейского, который отводит меня, бомжа, в участок, чем навсегда закрывает мне путь за границу. И снова - а что потом? Обратиться в посольство? Упаси, Боже! Было известно: во-первых, погонят, во-вторых же, навсегда перекроют границу. Решил - сунусь в гостиницу. Если потребуют деньги вперед, скажу, что приехал только-только и не успел еще обменять - в конце концов, в моем молоткастом, серпастом отмечено, кто я такой есть. А что до денег, то черт с ними! На пару суток мне для любой гостиницы хватит премии, а где жить после этого - в понедельник разберусь. Сунулся... По тому, как со мной разговаривали в первых трех гостиницах, понял, что дальнейшая самодеятельность бессмысленна. Вышел на Маршалковскую. У стоянки такси стояла небольшая очередь. Пристроился в конец, решив, что шоферы ночных такси должны знать все. Сел в машину и, используя словарный запас из полутора десятка польских слов и заменяя русские слова украинскими, вроде бы, более понятными полякам, сказал, что только что прибыл в Варшаву, деньги из банка смогу получить лишь в понедельник, и поэтому предлагаю пану свои наручные часы с тем, чтобы он отвез меня в какую-либо гостиницу, где, по его разумению, могут быть места. Пан тут же ответствовал, что у них в Варшаве в гостиницах вольных мест нет. Я с льстивой интонацией заверил, что пан безусловно что-нибудь придумает. Пан, "пошкрябав" панскую потылицу, двинулся в путь довольно решительно. Ехали долго. Выехали в пригород. Миновали и его. Когда я уже почти смирился с предположением, что пан везет меня в какую-нибудь чащу, чтобы рассчитаться за все три раздела Польши, мы подъехали к довольно большому зданию, оказавшемуся домом туриста, близкому по функциям, как выяснилось впоследствии, к нашим родимым турбазам. В холле, несмотря на столь поздний, вернее, ранний час сидел приглаженный портье. Изложил ему свою версию. Пан портье выслушал ее безучастно и подтвердил тезис об отсутствии вольных мест. - Что же мне делать, если я в Варшаве, кроме Адама Мицкевича и Владислава Гомулки, никого не знаю? - патетически воскликнул я. Интонация нищенского надрыва, заимствованная мною из арсенала средств воздействия на советских администраторш гостиниц, не произвела на портье, как и на его советских коллег, никакого впечатления, но он, скептически прищурив бровь, осведомился: - А что - пан дуже полюблюет Владислава Гомулку? - Пан больше всего полюблюет лоди (мороженое)! - заверил я, уходя от политики и предавая Гомулку. Негоция оказалась удачной: портье тут же щедро заплатил мне за генерального секретаря ПОРП цену, куда большую, чем реальная стоимость, так как воскликнул с воодушевлением: - Есть пану место! Присутствовавший при диалоге с портье таксист, услышав о моем, по меньшей мере, равнодушии к Гомулке, тут же вернул мне часы и, откозыряв, уехал. Мест, как выяснилось, было с избытком, ибо меня поселили в громадную комнату, где стояло десятка два кроватей, из которых занято было не более половины. Стоила ночлежка ерунду - 40 злотых за ночь, рассчитываться же можно было при выписке Я тут же позвонил Лянгам, заверив, что они могут за меня не беспокоиться, и улегся спать. Воскресенье провел, гуляя по Варшаве и старательно отводя глаза от витрин продуктовых магазинов. Труднее было с запахами. Но выхода не было - приходилось терпеть. В понедельник, весь в двухдневной щетине (утром, умываясь, увидел себя в зеркале и содрогнулся) явился в издательство. Директор, однако, не обратил на мою ежовую физиономию никакого внимания - либо сделал вид, что не обращает, и встретил меня с воодушевлением. Восторг, впрочем, относился не ко мне, а к газете, которой он потрясал. - Здорово! Ты посмотри, как здорово!!! - восклицал он. - Читай!!! Газета оказалась немецкой, а восхитило пана директора открытое письмо Солженицына, адресованное, если не ошибаюсь, правительству и ЦК, а может быть, Союзу писателей. Я заколебался. С одной стороны, директор самого большого издательства Польши - безусловно, коммунист, с другой - делать ему больше нечего, как провоцировать Солженицыным заезжего автора. После того, как я ознакомился со статьей, директор вознамерился ее со мной глубинно обсудить. Разговор, впрочем, получился односторонним. Непринужденному обмену мнений о свободе творчества в условиях социализма мне мешала моя, по-видимому, очень грешная плоть, которая решительно торжествовала над духом, ибо она, плоть, очень хотела есть. Наконец мне вручили моих 2000 серебряников. Я тут же распрощался и в первой же харчевне нарушил пост. Затем купил самобрейку, мыло и зубную щетку и пошел по тропе, давно протоптанной в поисках пристанища в бесконечных командировочных разъездах по весям Родины, а именно - отправился искать родственный институт, в данном случае варшавскую политехнику, где надеялся решить проблему крова. В политехнике, предварительно побрившись в туалете, зашел к хозяйственному проректору, попросил пристанища, которое тут же получил в аспирантском общежитии, почти комфортабельном и, главное, дешевом. Пять дней в Варшаве прожил насыщенной жизнью, стирая по вечерам единственную рубаху, так как чемодан остался у Лянгов. Оказалось, что можно неплохо существовать, сохраняя цивилизованный вид, даже при самом скромном гардеробе. Это, впрочем, меня ничему не научило, так как впоследствии, уезжая куда-либо,особенно за границу, таскал с собой ворох одежек, без которых, как показывает варшавский опыт, можно обойтись. С Лянгами встречался до отъезда дважды - на похоронах тещи и перед отъездом из Варшавы. В эти варшавские дни было несколько встреч и впечатлений, о которых стоит упомянуть. Мой сосед по общежитию - аспирант из Северной Кореи. Имя не запомнил. Очаровательный мальчик. Стажировался по какой-то из металлургий. Чрезвычайно начитанный и очень интересовавшийся западным искусством. Каждый вечер, отходя ко сну, и каждое утро, восстав от сна, раскрывал книжечку с портретом Ким Ир Сена и громко читал вслух изречения Великого. Делал это от души и для себя, так как я вряд ли походил на подсадную утку корейской охранки. Трудно представить, чтобы на наших советских широтах даже в конце 40-х - начале 50-х, когда преклонение перед Йоськой стало громоподобным, кто-нибудь, пусть даже аспирант-отличник областного партийного ликбеза, укладываясь почивать, молился вслух по "Марксизму и национальному вопросу". Хотя? На улице углядел афишу, которая меня чрезвычайно взволновала: анонсировался сольный концерт баритона Фишера-Дискау. О том, какой это вокалист, можно судить по тому, что на концерте ему аккомпанировал Святослав Рихтер. В программе цикл песен Гуго Вольфа. Афиша была перечеркнута наклейкой "Все билеты проданы", но разве можно было удержаться? И я ринулся в филармонию. В разговоре с администратором снова занялся коммерцией. На этот раз продавал Родину, назвавшись чехом: нашего брата в Польше не любили. Дело выгорело: администратор выдал билет на сцену(!). Оказывается, во время гала-концертов ставят стулья и прямо на сцене, и получившие эти места сидят лицом к залу. Мне выпало сидеть в первом "литерном" ряду, примерно в метре от рояля, поэтому я мог наблюдать обоих маэстро с близкого расстояния. Поначалу удивил меня Рихтер, который долго колдовал, устанавливая крышку рояля на нужную высоту, чтобы добиться нужного звучания и для этого ему приносили различные дощечки. Заняло это не меньше четверти часа, и зрители это время безмолвно пережидали. Лицо Диттера Фишера-Дискау, рослого, в цвете зрелости и голоса мужчины мог видеть лишь тогда, когда он выходил из-за кулисы, с моего места были обозримы только фалды фишеровского фрака и его затылок. Затылок меня и удивил. Уже на второй песне по нему потекли обильные струйки пота, а затем вздулась жила. Было видно, что, несмотря на то, что романсы Вольфа не содержат особых вокальных трудностей, пение для великого Дискау еще и - работа, тяжелая работа. Точно так же работал Рихтер: лился пот, билась вена на виске... (Вскоре после этого из первого ряда Киевского филармонического зала я видел в работе Мстислава Ростроповича - та же картина. В отличие от этих музыкантов гениальный Гилельс был бесстрастен.) По "наводке" моего друга Юрия Шанина познакомился с его варшавской коллегой Эльжбетой Януш. Придя к ней домой и, вперив по привычке глаза в книжные полки, замер: две из них занимали, прижавшись друг к другу, беленькие, новенькие "посевовские" томики того, что мы в Союзе почитали за большую удачу раздобыть в виде седьмой машинописной копии на одну ночь. И хотя я читаю быстро, а тут уж глотал тамиздат с гусиным аппетитом, осиливая в сутки по два тома, однако всего прочесть не смог. Поэтому записки Надежды Мандельштам взял с собой во Вроцлав, договорившись, что отдам их Эльжбете на варшавском вокзале, при возвращении в Киев. Из пятнадцати минут стоянки на Варшаве Глувной поезда Берлин-Киев четырнадцать с половиной минут я провел во все нараставшей тревоге: Эльжбеты не было и становилось неясным, что мне делать с крамолой, которую через границу вести было невозможно - за Надежду Яковлевну могли впаять десятку. Выбрасывать книгу на ходу из окна, означало бы привлечь нездоровый интерес соседей, среди которых могли оказаться всякие. Начали возникать разные варианты, вроде уединения с антисоветчиной в туалете, и после предварительного расчленения предания ее... Но тут прибежала Эльжбета, и клевета на строй была вручена хозяйке. Теперь о поездке во Вроцлав. Как только я в Варшаве из последнего нищего превратился в гражданина просто малоимущего, я позвонил во Вроцлав доценту Ядвиге Пигонёвой, с которой около года назад познакомился во время посещения ею нашей кафедры. Пани Ядвига занималась близкими проблемами, и контакты были несомненно полезными Имея же сэкономленные за счет дешевого жилья средства, я мог позволить себе поездку во Вроцлав. Поэтому, попросив пани организовать мне место в институтском общежитии, воскресным вечером приехал поездом во Вроцлав. Однако вместо четы Пигоней меня встретил молодой человек, отрекомендовавшийся кафедральным аспирантом, и сообщил, что Пигони отбыли по каким-то делам в Елену Гуру, вернутся поздно и поручили ему заняться мною. Аспирант перевел меня через привокзальную площадь, завел в какой-то роскошный, во всяком случае, по моему социалистическому разумению, отель. Там он что-то буркнул портье. Тот протянул ключ. Аспирант завел меня в номер и испарился. Все произошло так внезапно, что я в ошеломлении очутился посредине комнаты, роскошь которой представилась бы, наверное, чрезмерной даже владетельному султану Кувейта. Спустя несколько минут выяснилось, что в номере имеется еще одна комната - спальня и туалетная комната с такой ванной, что купаться в ней без одалисок было просто грешно. В столе я обнаружил толстую кожаную папку с перечислением услуг, которые оказывает гостиница и прейскурантом. В последнем была жирным шрифтом проставлена цена за номер - 2200 злотых в сутки, а бежать из гостиницы было уже поздно - поселение состоялось. Подсчитав, что моих средств хватит примерно на 3 часа, я пришел в совершенное уныние и, грешен, стал сетовать на несообразительность Пигоней, которые, по-видимому, решили, что профессору должно быть воздано профессорово, хотя я в телефонном разговоре, как мог, напирал именно на общагу. Полагаю, что в такой ситуации не уснул бы даже Гагарин. Бодрствуя всю ночь, я даже не размышлял о том, как выпутаться из этой пикантности: если продать всего меня, с одежкой и требухой, на аукционе с участием очень уж беспечных аукционеров, то вряд ли можно было выручить сумму, достаточную для оплаты даже суточного пребывания в этом, не знаю сколькозвездочном, раю. Утром все разрешилось наилучшим образом. Позвонили Пигони, поприветствовали меня в их городе и между прочим сообщили, что мое проживание в гостинице оплатила Вроцлавская политехника. Во время этого сообщения я брился и увидел в зеркале, как скатертная бледность ланит сменилась обычной пурпурностью. На следующий день я читал доклад на объединенном семинаре университета и политеха. Переводил профессор университета Люциан Собчик, с которым мы познакомились лет пять назад в Ростове-на-Дону при небезынтересных обстоятельствах. Вечером во время обеда у Пигоней они сообщили мне, что дядя этого аспиранта приглашает нас всех завтра к себе на обед. Я, понятно, подивился гостеприимству дяди, простирающемуся столь далеко, и принялся было отказываться, но Пигони так активно настаивали, что согласился. Назавтра, втиснувшись в микроскопическую машину Пигоней, отправились в гости к дяде. Подъехали не к дому - ко дворцу, с колоннами, привратником и большим количеством снующих по обоим этажам особняка лиц явно клерикального ведомства. Только тут Пигони сообщили мне, что дядя - епископ Вроцлавского воеводства. Дядя, достаточно преклонных лет. облаченный в партикулярное платье и превосходно изъясняющийся по-русски, принимал нас в весьма скромной - очевидно, не парадной, а, так сказать, рабочей столовой. Столь же скромной была трапеза. Дядя не чурался красного вина, я составил ему компанию. "Разговор был славный", хотя говорили не о Ликурге и не о Солоне, однако же и не о политике. Под конец приема выяснилось, что епископ получил в свое время также и светское образование, надо полагать, неплохое, так как окончил химический факультет Сорбонны и слушал лекции у Ле-Шателье. Следующей поездке в Польшу в 1977 году предшествовали события достаточно бурные. Получая очередной отказ в поездке за границу, я, как и все мои коллеги во всех городах и весях нашей необъятной родины, никогда не трепыхались, понимая полную бесполезность вибрирования. Исключений всего два: командировка на Кубу (см. очерк "Куба - любовь моя?") и вот эта польская поездка 1977-го года В этом году варшавское издательство "Panstwowe Wydawnictwo Naukowe" сообщило, что намерено перевести мою книгу "Физическая химия неводных растворов", вышедшую за три года до этого в Ленинграде. Переводчицей была определена Ядвига Пигонева, по инициативе которой, по-видимому, и предпринимался перевод. Пани Ядвига отнеслась к поручению очень ответственно, забрасывая меня письмами с вопросами, которых было очень много. Большинство из них было связано с тем, что за период после выхода книги на Западе научная литература перешла на другую систему единиц. Пользуясь эпистолярным методом, эти вопросы трудно было решить, и следовало приехать в Киев на пару недель. Оформление выезда поляков к нам было делом совсем пустяшным. Однако дней через десять заболевшая Ядвига попросила приехать меня. Ответил согласием - выезд за границу, пусть и в Польшу был для меня событием - и всего через неделю я получил приглашение от Пигоней. Был уверен, что оформление, как и за четыре года до этого, пройдет спокойно, но "выездная комиссия" парткома отказала мне сразу и категорически. Дескать, парткомом принято решение не давать рекомендаций для поездки за границу по частным приглашениям. Сообщивший мне этот вердикт парткомовский хмырь смотрел мимо меня, из чего я заключил, что он говорит неправду: в партком попадали, как правило, не сократы, но вряд ли они в открытую решились бы присваивать себе функции даже не ОВИРа, а МВД и МИДа. Мои возражения, что, дескать, еду не гулять, а работать с переводчиком, сотрясли воздух впустую. Поскольку попасть во Вроцлав все же было необходимо, я написал ректору Денисенко письмо с изложением своих резонов. Письмо было, конечно, передано в партком Родионову (см. "Партийный секретарь"). Увидев его зенки, я развернулся и ушел, не желая унижаться. К тому времени я работал в КПИ уже давно и знал, что продажными в советские времена были не только автоинспекторы... Короче говоря, через несколько дней я имел на руках список из 26-и персон, которым в текущем году парткомом были выданы характеристики-рекомендации для зарубежных поездок по частным приглашениям. Против каждой фамилии стоял номер протокола и дата. Встретившись с сотрудником факультета постоянно вращающимся в кругах, близких к парткому, но приличным малым, я просил передать список парткомовскому начальству и объяснить, почему для меня делают исключение. Можно было действовать покруче, с позиций силы, но за прищучивание еврея парткому бы не влетело, напротив, эту деятельность наверху приветствовали всячески, но требовали сохранить "чистоту" приемов. А тут - какая уж чистота?! Через два дня получил подписанную первым секретарем характеристику. Несколько месяцев препираний, и Ядвига представила перевод с большим опозданием. Книгу передвинули на год - как раз на то время, когда в Польше было введено военное положение, и все издательства были закрыты. Из-за "поддержки" партийного комитета КПИ и Родионова книгу издали на три года позже. После работы с переводчицей в конце 77 года заехал на обратном пути в Варшаву и пару дней гостил у Лянгов. Сталинские прохаря потоптались и по этой чете. Детство и отрочество Бруно Лянг провёл в краковском местечке. Учился в гимназии, где его учительницей была Ванда Василевская. Окончив, работал в гвоздильной мастерской, лелея мечту о высшем образовании, которое так и оставалась мечтой, поскольку средств на это не предвиделось. В 39-м году СССР и Германия разодрали Польшу на клочки. Расстреливая офицеров и священников, коммунисты, конечно, по сговору с немцами, сыграли в лояльность, объявив, что на протяжении нескольких ближайших месяцев после освобождения Польши от гнета панов ее подданные могут выбирать: продолжать жить в Польше, вернее, в том, что от нее осталось, либо переехать в Советский Союз в бывшие польские, а ныне советские территории. Одновременно разрешено было полякам из освобожденной Западной Украины переселиться в Польшу. Всего сотня-другая поляков решилась переехать в первое в мире социалистическое государство. Среди них оказался и Бруно Лянг, который, прослышав о бесплатном высшем образовании, решил, что это единственная возможность получить его. Действительно, июнь 1941 года Бруно встретил студентом химико-технологического факультета Донецкого индустриального института. Спустя месяц-другой институт эвакуировался. Лянга же, как человека с неясным статусом, ибо советского подданства он не получил и располагал лишь каким-то неопределенным разрешением на право жительства, с собой не взяли. По этой же причине не брали его и в армию, куда он несколько раз безуспешно пытался определиться. По мере наступления немцев, Бруно большей частью пешком пробирался на восток. Оголодал и запаршивел до последней степени, но добрался до Самарканда, где пребывал в эвакуации ДИИ. Там ему равнодушно сказали: коль уж добрался - занимайся. И Бруно, едва ли не единственный из мужчин-студентов, стал далее постигать химию, ютясь - понятно, незаконно - в трущобах, отведенных под институтское общежитие. Спустя месяц-полтора в лабораторию, где студент Лянг проводил какой-то немудреный органический синтез, прибежала сокурсница и сказала, что в общежитии его ждут двое штатских, ведомственная принадлежность которых не оставляла сомнений. Тут же Бруно задворками отправился на вокзал и отбыл в Ташкент, где заявился в первый же военкомат и, сказавшись жителем Донбасса, потерявшим документы, попросил его мобилизовать. Стоит ли говорить, что камуфляж был наивным: сильный акцент, несоветские внешность и манера держаться сразу подсказали военкому, с кем он имеет дело, и через полчаса Лянг сидел в местной тюрьме в обществе еще десятка бедолаг-поляков. Сидели долго и очень голодно, двое, не выдержав условий азиатской каталажки, померли. Остальных этапом, во время которого умерли еще двое, доставили в Москву, где, продержав в Лефортово недели две, объявили, что все они как шпионы приговорены к вышке, каковую они и получат, как только дойдут до них руки загруженной сверх меры расстрельной команды. Ждать пришлось долго - два месяца, веселых два месяца... Затем поляков погрузили в воронок и повезли куда-то. В перевозке молодые люди прочитали молитвы и попрощались друг с другом. Однако их, привезя в какой-то подмосковный дом отдыха, не только не расстреляли, но, напротив, вымыли, накормили и, нарядив в не очень понятную военную форму, объявили, что отныне они являются офицерами Польской Армии Народовой, которая должна сражаться не только против немецко-фашистских окуппантов, но и против их наймитов - Армии Крайовой под командованием окопавшегося в Лондоне Иуды-Андерса. Закончил войну Лянг подполковником, удостоенным боевых польских и советских орденов. В 45-м его не демобилизовали, а направили служить в Варшаву в Министерство обороны, где он в скором времени стал руководителем отдела, ведающего взрывчатыми веществами. Антисемитизм в Польше всегда находил благодатную почву. В конце же 40-х польские руководители также принялись за евреев, и Лянга вышибли на гражданку. Расставшись с мундиром, он реализовал давнишнюю мечту - получил химическое образование, закончив химический факультет Варшавского университета, в котором и остался работать - сначала в должности ординарного преподавателя, а затем, защитив положенные диссертации, - профессором. Затеянное Берутом и осуществленное Гомулкой в районе 70-го года великое изгнание евреев из Польши не коснулось Лянга. Один из примерно трех тысяч задержавшихся в Польше евреев и единственный еврей в университете, он продолжал работать. Возможно, это было связано с тем, что отец его жены Фреды, которая, кстати, вместе с Бруно прошла всю войну, занимал в свое время какой-то весьма высокий партийный пост. Под конец этого явно затянувшегося повествования - еще одно необязательное, но приятное для меня воспоминание: тогда, в 77-м, я приобрел во Вроцлаве комплект пластинок с записью монюшкинского "Страшного двора" с блистательным польским тенором Богданом Папроцким, с которым лет за пятнадцать до того я неожиданно познакомился во время его гастролей в Киеве. Но это уже другая история. |
|
(Куба, 1989)
I
В конце 70-х - начале 80-х КПИ напоминал реализовавшийся наяву сон о грядущем Интернационале: в коридорах и в парке клубились чернявые, смуглые, желтые и белые студенты всех параллелей и меридианов. Кубинцы выделялись среди них подчеркнутой раскованностью и независимостью. Впрочем, самой отличительной чертой большинства представителей острова Свободы была всепоглощающая, чудовищная лень. Если бы мне пришлось выстраивать спектр студентов по их отношению к учебе (что отнюдь не означает - по способностям), то коротковолновую часть спектра заняли бы истовые ко всему, не только к академическим обязанностям, китайцы, а в длинноволновую, наименее энергетическую - кубинцы. Вот почему в 82 году я, мягко говоря, не обрадовался, узнав, что у меня будет кубинский аспирант. Первое знакомство с Рейнерио меня несколько озадачило. Представьте себе типичного кубинца - смуглого темпераментного красавца со жгуче-томными латиноамериканскими очами. Представили? А теперь проделайте операцию, которая в математике называется перемена знака. Проделали? То, что получилось в ответе, и был кабальеро Рейнерио Альварец Боррото. Бледноватый, далеко не первой молодости человек низкого роста, двигающийся, как в замедленной киносъемке. И еще усы. Постные, меланхолические, цвета переваренного "геркулеса" и, кажется, такой же консистенции. Хлебнул я с благоприобретенным аспирантом лиха под завязку. Было очевидно, что работу с неводными растворителями ему не осилить. Поэтому впервые в жизни дал тему с водными растворами, но поскольку такие объекты были исчерпаны, то решено было работать с тяжелой водой. Это была не лучшая идея. С помощью лести, угроз, шантажа, подкупа должностных лиц я раздобыл около литра почти стопроцентной тяжелой воды и, прицельно выбрав время, когда мой ангел-хранитель снова отлучился, отдал всю добычу Рейнерио. Конечно, под присмотром опытного доцента Павла Стаднийчука. Самоуспокоенность сыграла со мной злую шутку очень скоро. Однажды ко мне в кабинет ворвался рвущий на себе халат Стаднийчук, вопя при этом - не так чтобы очень членораздельно: - Смертоубийство сотворю! Порешу мерзавца!! Выяснилось, что Рейнерио скрупулезно воспроизводил с тяжелой водой все то, что отрабатывалось им на обычной воде, настолько тщательно, что, закончив опыт, выливал растворы в раковину... Пришлось, изворачиваясь, выдумать нашему кубинцу тему с растворами на обычной воде, тему, для реализации которой был учрежден кафедральный концерн, каждый из членов которого отвечал за определенный участок работы - один гнал эксперимент, другой - крутил расчеты, третий фабриковал заготовки для статей. Рейнерио приходил в лабораторию где-то к полудню и, послонявшись с полчаса, отправлялся обедать. Появлялся к вечеру. Претензий я к нему не имел. Непонятно было лишь то, почему с каждой неделей выражение кабальерского лица становилось все более озабоченным. И все чаще он приносил мне записки от проректора, которыми я ставился в известность, что мой аспирант отправляется в Москву по делам кубинского землячества. На эти поездки Рейнерио я не обращал внимания и, как выяснилось, напрасно. Как-то, будучи занят с утра на защите в ИОНХе, пришел в институт часам к двум. У дверей кабинета маялся Рейнерио с каким-то средних лет соотечественником пронзительно кубинской внешности. Позже мне сказали, что они простояли перед моим кабинетом добрых часа два. Рейнерио, не представив гостя, сообщил, что тот хочет мне что-то сказать. Это "что-то" уложилось в одну фразу, переведенную Рейнерио. Меня благодарили за воспитание специалиста для революционной Кубы. Я ожидал, что на этом миссия посетителя будет исчерпана, но он уходить не собирался. Помолчали. Обменявшись сигаретами, закурили. Еще помолчали. Еще закурили... Наконец посетитель попрощался, сообщив через Рейнерио, что он в очередной раз увозит моего аспиранта на несколько дней в Москву. Когда Рейнерио вернулся, я полюбопытствовал о посетителе. - Первый секретарь посольства, - меланхолично ответствовал аспирант. - И вы первого секретаря посольства держали столько времени в коридоре?! Его надо было представить ректору! Вы понимаете, кто такой первый секретарь посольства? - Понимаю, - зевнув, успокоил меня Рейнерио. - Я ему диктовал правила подбора студентов и аспирантов для обучения в Советском Союзе. - Диктовал? Первому секретарю посольства? В качестве кого? - Секретаря партийной организации кубинских студентов и аспирантов в СССР... - сонно уведомил меня Рейнерио. Вот так. Разъяснилась печать глубокомыслия на аспирантовом челе и причина его частых отлучек в столицу. И стало понятно, что отвлекать Рейнерио, даже кратковременно, на его диссертационные дела было бы диверсией по отношению к тысячам строителей будущего кубинского коммунизма, набирающимся прорабского опыта в Советском Союзе. Мы и не отвлекали. Пару раз Рейнерио ездил по каким-то делам, а возможно, и без дела на родину. Диссертацию подготовили в срок. Диссертанта натаскали. Защита прошла более чем спокойно и благополучно. Рейнерио, поднаторевший к тому времени в русском языке, довольно сносно прочитал написанный ему текст доклада. По легальной шпаргалке ответил на замечания в отзывах оппонентов и, удостоившись единогласного голосования на совете, члены которого хорошо понимали цену такой защиты, стал кандидатом химических наук и отбыл на родину. II
Скоро я начал получать от Рейнерио весьма частые для его трудолюбия, письма. Выяснилось, что он стал проректором университета в городе Камагуэйе и одновременно - заведующим кафедрой химической термодинамики. Его интерес ко мне был узко прикладным - требовалось наладить на младой кафедре научную работу. Однако на расстоянии руководить работой, к тому же экспериментальной, было трудно, чтобы не сказать невозможно, и Рейнерио стал усиленно приглашать меня посетить остров Свободы. Понятно, что командировки за границу находились под пристальным вниманием парткома, а следовательно, и секретаря Родионова. А так как ректор практически не вмешивался ни во что, кроме строительства, то Родионов превратился и в фактического хозяина института. Его раздражало то, что вопреки его отчаянному сопротивлению, доходившему до схваток с ректором, я все же стал заведующим кафедрой. Понятно, что в иностранном отделе института на неоднократные мои запросы отвечали, что с Кубы никаких заявок на меня не поступало. Поэтому я в украинском министерстве высшего образования решил "блефануть". Зашел с озабоченным видом в управление по зарубежным связям и, потрясая кипой бумаг, сказал, что не могу дозвониться в родимый институт, а мне надо срочно узнать реквизиты письма из Москвы с извещением, что меня приглашают на Кубу. Одуревшая от безделья чиновница порылась в картотеке и осведомилась, номер которого из трех вызовов мне желательно узнать. Интересны, понятно, были все, но пришлось ограничиться последним. Информация, полученная в Минвузе, была, конечно, ценной, но материальной силой она могла стать лишь в документально-бумажном воплощении. Придя на следующий день в институтский иностранный отдел, я попросил начальницу разыскать бумагу от такого-то числа исходящим номером таким-то и еще раз внимательно ее прочитать. Эффект получился неожиданный. Начальница иностранного отдела, невзрачная особа с внешностью профессиональной неудачницы, услышав ссылку на номер бумаги, вмиг покрылась скарлатинными пятнами и исчезла за дверцей шкафа. Вынырнув оттуда спустя несколько минут, она принесла мне - не министерскую бумагу, нет, а наспех нацарапанную на обороте какого-то исписанного листа выписку, из которой следовало, что Министерство высшего образования Кубы приглашает меня на их остров, а университет города Камагуэй будет рад выказать мне свое гостеприимство... Тут следует заметить, что Родионов со сворой, затевая очередную гадость, сделал всё достаточно примитивно. Можно было спокойно предъявить мне вызов, предложить оформлять документы, которые затем никуда не посылать, или сослаться на московскую инстанцию. Для наступления следовало вооружиться, а стрелять в нашем государстве могла только бумага. Поэтому решил обзавестись документом на высшем уровне и написал в Москву в управление внешних сношений Минвуза СССР, исполненный дурашливой наивности запрос: дескать, получаю из Кубы письма, оттуда шлют приглашения, а здесь никто ничего не знает. Из Москвы последовал нагоняй, что такие дела не решаются на месте, но в письме содержалась опасная для меня приписка, что если выезд специалиста, указанного в заявке, по какой-либо причине состояться не может, Минвузом УССР может быть предложена другая кандидатура. Интриги со стороны иностранного отдела продолжались, но прижатые к стенке, они нашли "стрелочника" и сократили начальницу иностранного отдела. Спустя некоторое время история получила забавное продолжение. Мне стало известно, что в то самое время, когда происходила вся эта свистопляска, по моему лимиту на Кубу отправили функционеров из института. III
Перелет на Кубу в феврале 89-го года ничем примечательным не отличался: Шереметьево - Шенон - Гарднер - Гавана. Аэропорт Шенон - громадный универмаг. В канадском Гарднере в туалете над писсуарами призыв - только по-русски: "Просим мочиться не мимо и окурки не бросать. Спасибо". Прилетели в Гавану почти ночью. К счастью, встретили и отвезли в министерскую ночлежку. Всю ночь не мог уснуть из-за разницы в поясном времени и из-за того, что на соседних койках храпела, по-видимому, басовая группа хора гаванской оперы. Утром выяснилось, что хористов никаких не было, а выступал соло тщедушный доцент из Воронежа, досрочно уезжающий на родину - полагаю, по требованию островной сейсмической службы. Утром, не дав побродить по столице, повезли в аэропорт. По дороге завернули отметиться в посольство. В посольстве долго искал деятеля, отвечавшего за нас, вузовских. Наконец он появился, посмотрел на меня с отвращением и протянул мне засаленную папку, содержащую свод правил поведения советских граждан на острове Свободы, состоящий из 150 пунктов. В аэропорту Камагуэй меня встретил явно заматеревший Рейнерио, сопровождаемый личным шофером. Меня отвезли в апартаменты - трехкомнатную квартиру в обычном доме и, поскольку было уже поздно, оставили одного. Ночь провел неуютно: в Киеве уже давно наступил день, и категорически не спалось. Значительную часть ночи просидел перед распахнутым окном, тщетно пытаясь что-либо рассмотреть в ночи цвета китайской чёрной туши. К утру стало совсем тоскливо, но тут на соседнем балконе, еще сокрытом тьмою, проклюнулась жизнь: кто-то позвал какую-то Катариту. А затем тот же голос стал - по-русски! - характеризовать эту сеньориту в выражениях, которых в полном объеме не знал, по-видимому, даже сотрудник Института русского языка и литературы, редактировавший знаменитый четвертый том дополнений к словарю Даля. Я обрадовался. Когда соотечественники рядом - жить веселее. Между тем земляк продолжал честить Катариту. Местами его периоды были столь замысловаты и художественны, что становилось завидно. Несколько озадачивала картавость, заставляющая предполагать семитское происхождение Мастера. Когда рассвело - внезапно, как будто включили свет - выяснилось, что на соседнем балконе орет попугай, обученный земляками. В соседней квартире началось движение, я, выждав немного, постучал в дверь. Увы, там обитала семья немецкого специалиста из Эрфурта. На вопрос, откуда у них появился такой эрудированный попугай, ответили, что Papagei куплен ими у отбывшего на родину русского мелиоратора. Надо полагать, что неведомая Катарита здорово натянула нос труженику кубинских болот. Через час выяснилось, что соотечественники все же есть, даже, как показало дальнейшее, в известном избытке. В автобусе, который подавался к домам, где жили советские специалисты, отбыл в находившийся примерно в десяти километрах университет, горя желанием положить свой труд на алтарь кубинского образования и науки. Однако приступить к этому благородному занятию оказалось затруднительным - хотя бы потому, что сам храм был еще закрыт, и жрецы его отсутствовали. Расположившиеся на нежарком поутру зимнем солнце земляки пояснили мне, что кубинцы собираются не раньше десяти утра и, выслушав мои вопросы, принялись составлять для меня обстоятельную лоцию движения по камагуэйско-университетской жизни. Обычно соотечественники, прибывая на Кубу, одержимы желанием распахивать целину. Однако хозяева, обнаруживая неожиданную для их флегматичности изворотливость, от выдачи информации увертываются. После нескольких безуспешных попыток получить работу эволюция советских культуртрегеров происходит по двум схемам. Одни находят себе работу сами. Другие, вспоминая о водочном посте на родине (тогда страна находилось на гребне лигачевского наступления на спиртное) и, созерцая разнообразие довольно дешевой выпивки в магазине для иностранных специалистов, начинают пить. Причем занимаются этой работой с профессионализмом и обстоятельностью, свойственным по этой части советскому человеку. [K3] Я пошел первым путем, предусмотрительно захватив из Киева программируемый микрокалькулятор, и мог занять себя счетом. Обнаружив в капитальной испанской монографии по сахару подробнейшие таблицы по плотности и вязкости сахарных растворов в весьма широком температурном интервале, принялся считать термодинамику таких растворов, из чего впоследствии получилась пара статей - понятно, в соавторстве с Рейнерио. А еще убиения времени ради начал вести... дневник - в первый и, надо полагать, последний раз в жизни. Привожу отрывки: 28 февраля 89 г.
Третий день в Камагуэе. Вчера продолжал прием приходивших знакомиться соотечественников. Побывало не то 9, не то 11. Точный подсчет затруднен простой, но веской причиной. Каждый из них, посещая мое холостяцкое жилище, приносит бутылку, которую в основном сам же и выпивает. Ближе к полуночи разыгралась хичкоковская сцена: раздался стук в дверь, я беспечно открыл, и в квартиру ввалились три негра общей массой под полтонны и с такими физиономиями, что от их созерцания содрогнулся бы сам доктор Чезаре Ломброзо. Однако вместо того, чтобы кончать клиента, негры принялись, перебивая друг друга, в чем-то меня убеждать. Увидев, что их усилия пропадают даром, один из них запустил лапищу в принесенную ими корзину и вынул... оскалившееся чучело крокодила, сверкавшее белым брюхом. У меня начались рвотные спазмы, и я принялся умолять их спрятать страшилище и самим убираться подальше. Непрошенные гости удалились, дав понять выразительной жестикуляцией, что я прошел мимо своего счастья. 1 марта
Сегодня ночью по случаю начавшейся весны была гроза, но не тропическая, а вполне пристойная, киевская. Утром мои коллеги, которым я поведал о нашествии продавцов чучел, подтвердили, что упустил удачу. Чучело я мог бы сторговать за сущую безделицу, за 4-5 песо, а в комиссионных магазинах Москвы за него дают до 700 рублей... Мое возражение, что провоз таких экспонатов запрещен кубинским законом, с которым нас знакомили еще во время "накачки" в Москве был встречен снисходительным смехом. Оказалось, что на закон плюют, прежде всего, сами кубинцы. Что же касается таможни, то чучело не следует прятать в багаже, напротив, надо взять, сетку, на дно её положить бутылку кубинского рома, на ром крокодила, а сверху - еще бутылку. Этот сэндвич надо нести гордо и открыто. Да и чего бояться - ведь верхняя его часть предназначена для кубинской таможни, нижняя - для шереметьевской. Коллеги описали все точно. Уезжая, в кубинском аэропорту видел не одного соотечественника, ласково прижимающего к себе сетку с означенным содержимым. Сумка протягивалась таможеннику, который ловко извлекал бутылку и показывал все свои 64 белых зуба. Точно такую картину наблюдал в Шереметьево, только наши таможенники, как и положено советским стражам границы, брали ром без каких-либо эмоций. Среди соотечественников ходят неясные разговоры о поездке для советских в субботу и воскресенье куда-то к морю. Судя по организаторам, это станет известно в минуту отъезда, если таковой состоится. Вечером меня навестил Рейнерио, открывший новую грань своей натуры. Он принял не меньше 0,75 л рома из запаса, который всегда должен быть в доме на случай посещения кубинцев, не признающих ничего, кроме отечественного напитка. Употребив же эту дозу, солидную даже для генетически стойкого по части выпивки жителя наших широт, Рейнерио, как настоящий коммунист, прошедший обучение в стране победившего социализма, ушел почти свежим. 2 марта
Быт такой: по дороге - в университет, а вечером из университета завозят купаться в довольно чистый бассейн местной высшей партийной школы. В районе шести вечера регулярно идёт дождь. Народ очень доброжелателен, при встрече показывают в улыбке зубы, а руками - как они будут отстреливаться от мирового капитализма, если он по глупости сунется на Кубу. Как местные этими руками работают - не показали. Сложные отношения установились у меня с холодильником "Минск". От тоски по далекой родине бедняга, похоже, свихнулся: час-другой стоит спокойно, а потом вдруг его начинает трясти и корёжить. По ночам же он, перестав по-сиротски всхлипывать, принимается отплясывать что-то среднее между лявонихой и самбой. 3 марта
Езжу каждый день в университет, таская, как юродивый, из дома и обратно единственный, по-видимому, в районе Карибского моря трансформатор. Эта машина примерно семи килограммов весом гудит, как океанский лайнер, потребляет, наверное, львиную долю столь дефицитной в округе Камагуэй энергии и нагревает, вдобавок к хорошему кубинскому солнцу, без того жаркий воздух еще на добрых пять градусов. Но обойтись без трансформатора нельзя - он необходим мне для того, чтобы дома работать с калькулятором. В университете производительность невелика, ибо озверевшие от безделья земляки рвутся общаться. Еще одно развлечение: сражаюсь с бананами. Их продают здесь хлорофилльно-зеленого цвета. Старожилы сказали, что бананы надо положить на балкон и ждать, пока они пожелтеют под кубинским солнцем. За прошедшие четыре дня пожелтел даже балкон, не говоря уже обо мне, а они, сволочи, стали, кажется, еще более зелеными. Будучи предупрежденным, что камагуэйскую воду нельзя пить даже кипяченной, утоляю жажду апельсиновым соком, благо апельсины здесь фантастически дешевы. 4 марта
Сегодня большой день: удалось в одном месте и в одно время собрать всех пятерых моих аспирантов и с помощью переводчицы объяснять будущим двигателям кубинской физической химии их задания. Работа оказалось очень даже пыльной, так как словарный запас переводчицы, обучавшейся языку Сервантеса в Минске (большая часть советских здесь из Белоруссии), исчерпывался несколькими терминами из политэкономии социализма. Но, кажется, удалось аспирантам втолковать суть дела, дать задания по расчету и они заверили, что "маньяна" (завтра) все будет сделано. 5 марта
Воскресенье. Конечно, ни на какое море не поехали. Причина? Для ее объяснения потребовалось бы красноречие моего соседа-попугая. Кубинцы оказались на высоте: автобус был подан к 8-и утра. Оживленные соотечественники, беззлобно препираясь по поводу мест, быстро его заполнили, предвкушая несколько дней морского отдыха со всем, что входит в это понятие (из сумок выглядывали артиллерийские дивизии бутылок). Но тут появился наш советский начальник, партсекретарь советского околотка армянин по имени Лаэрт (!) и сказал, что университет почему-то не перевел денег на оплату автобуса и поэтому каждому надлежит заплатить за экскурсию два песо (зарплата советского доцента около 500 песо). И тут началось! Все, дамы в особенности, стали вопить, что не намерены платить нажитое адовым трудом за то, что обязан субсидировать университет. Лаэрт отбрехивался. Порешили: кто не желает платить - пусть выходит. Публика начала покидать автобус, доводя до сведения партсекретаря свое мнение о кубинцах вообще и университетском начальстве в частности. При этом бросали выразительные взгляды на меня: о моей близости к проректору было известно. В автобусе остались двое: я и кроткий доцент-математик из Гомеля, уснувший столь крепко, что его не сумело потревожить даже волнение народных масс. Воскресную скуку Рейнерио неожиданно решил развеять визитом к другу, который давал обед. Друг оказался белым, флегматичности еще большей, чем у моего ученика. Жена его - мулатка цвета кофе с молоком, а сын - абсолютно черный. По случаю такой цветовой дисгармонии я бы на месте рейнериевского приятеля не был столь безмятежен... 6 марта
Ничего не произошло. Днем 30-32 градуса, но сухо. Из моей аспирантской команды задание не сделал ни один. Заверили, что обязательно сделают "маньяна". Вечером сгоняли нас, советских, в местный "Дом дружбы", обещая советский фильм. Перед фильмом Лаэрт около часа нудил политинформацию. Детишки, которых долгосрочники привели в кино, измаялись, но пока садист всесторонне не обосновал гуманность советской внутренней и внешней политики, фильм крутить не начали. Лента оказалась узбекской, и поэтому сразу после титров я ушел. Телевизор починили. По нему шесть раз в неделю показывают бейсбол. А если не бейсбол, то на экране - три здоровенных негра, трясущие тыквенными инструментами, под сухой треск которых лоснящаяся мулатка колышет необъятным телом. Зрелище для отца Сергия перед отрубанием перстов. 7 марта
Сегодня вкусил Атлантического океана. Меня неизвестно зачем повезли километров за тридцать в городок Нуэвитос на химический комбинат. По дороге - удручающей бедности деревни. Окна домов без стекол и ставен и никакого следа огородов. А ведь здесь из сунутой в землю обгорелой спички через две недели обязательно вырастает что-нибудь съедобное. Пояснили, что огороды - это пережитки капитализма, так как потворствуют мелкособственническим инстинктам. Химкомбинат построен нами, и штат практически весь советский. Во всяком случае, когда меня водили по цехам, испанской речи я не слышал. Объяснили, что после того, как рванула колонна синтеза аммиака (заводское начальство во время смены распорядилось провести олимпиаду, и кубинские аппаратчики с удовольствием пошли гонять мяч, презрев такой пустяк, как контроль за давлением), кубинцы наотрез отказались обслуживать грозную технику, и технический персонал экспортируют за три моря-океана из Союза. Комбинат производит азотные удобрения (аммиачную селитру), благодаря чему содержание нитратов в овощах и фруктах здесь в пятнадцать раз превышает норму (информация начальницы лаборатории). Погуляв по комбинату, пошел на городской пляж. Там под крепким солнцем сидели, зябко запахнув - по случаю зимы - одежки, жители острова Свободы всех возрастов и мастей и почему не плавились, известно лишь им - если только известно. Не купался никто. В океан полез лишь я и плескался при температуре воды примерно 26 градусов под приветственные вопли восхищенных моей отчаянностью аборигенов. Что они кричали, не знаю - возможно, "морж!" На обратном пути у меня возникла необходимость осмотреть придорожный кустарник. Вышел из машины и, раздвигая плотные ветки, увидел дерево, на котором аршинными буквами было выведено традиционное российско-заборное слово. Кривая моей ностальгии по далекой Родине резко дернулась вниз. 8 марта
Сегодня у нас праздник, и кубинцы брошены на произвол судьбы. Накануне по квартирам ходили доброхоты и собирали деньги на празднество, с которого я сейчас и пришел. Все прошло вполне по-советски. Наряженные дамы готовили бутерброды, которые мужики тут же употребляли в качестве закуси. Через полчаса после начала торжества почти вся мужская часть колонии была готова. Даже Лаэрт, расслабившийся по случаю международного женского дня, стоял посредине залы и раскачивался метрономом, стараясь при этом показать, что он как стеклышко... Дамам вручали подарки - конфеты. Организаторы просчитались, и двум не хватило - заменили водкой. Дамы поохали, но водку взяли с удовольствием... 9 марта
Утром разрозненные ряды моей аспирантской команды снова угостили меня "маньяной". Скрипнул зубами, но удержался. Несколько этнографических наблюдений. В полдень симпатичные второклашки возвращаются из школы, попарно мальчики и девочки, держась за руки. Мальчишки худющие, шоколадно-симпатичные, росточком сантиметров с 80. Девицы же этого невинно-голубого возраста имеют, причем в избытке, все то, что в наших широтах женский пол наживает к завершению третьего десятка. Немыслимое количество цирюлен и чистильщиков обуви. По-видимому, одна половина населения стрижет и бреет другую, которая в благодарность за это драит парикмахерам штиблеты. Парикмахерская работа здесь - не синекура, так как причёски у кубинских негров таковы, что головы их владельцев следует обрабатывать на токарном станке. Начисто отсутствует пресловутый национальный вопрос. К белым, черным, смуглым и т. п. все относятся одинаково - ситуация, о которой мы слышали только из уст артиста Володина в фильме "Цирк". В результате произошло смешение рас и воплотилась в кубинской жизни мечта Нагульнова, который пророчествовал, что после победы всемирной революции все будут одинаково смугленькие. Черные женщины страдают избыточной полнотой. Масса местных матрон такова, что для ее характеристики килограммы слишком мелки: считать следует на тонны. Соответственны и габариты. Когда в городской автобус втискивается хотя бы четверка синьорин, остальным пассажирам там делать нечего. Три раза в неделю в "Доме дружбы" показывают советские фильмы. Но фильмы!!! За производство таких шедевров режиссеров следовало бы оскоплять без наркоза и без суда - только по решению ЖЭКа. 10 марта
По причине невхождения ни в одну из группировок, фракций, партий и лож в советско-камагуейской колонии, насчитывающей вместе с чадами и домочадцами двадцать три человека, я становлюсь чем-то вроде местного ребе. Каждый день меня посещают не меньше двух человек, которые возводят хулу на остальных. Есть, впрочем, платформа объединения всех сограждан Независимо от пола, чина, состояния и вероисповедания ненависть к Лаэрту. Но после окончания учебного года именно Лаэрт кропает характеристики, которыми продлевается либо завершается пребывание нашего специалиста на Кубе. Это тот кнут, с помощью которого он управляет всей отарой, заземляющей свое негодование в разговорах со мной, либо ночью - в подушку. 11 марта
Родные мои и близкие, к вам обращаюсь я, друзья мои! Знайте: если 27-го марта поздно вечером я не выйду из самолета, прибывшего в Шереметьево, то я нахожусь либо в Анголе, куда завербовался добровольцем, чтобы получить "Калашникова", либо в кубинской тюрьме, из которой меня, впрочем, скоро освободят и, быть может, даже дадут медаль "Хосе Марта" третьей степени за очищение человечества от скверны. Сегодня утром я, больше с помощью жестов, меньше - при содействии переводчицы, которая физико-химическую терминологию переводит так, что молодые люди прыскают в коричневые ладони, а девицы приобретают траурный вид - смесь черного с румянцем, объяснял аспирантам расчет энтропии растворения. В разгар работы меня разыскали двое наших хмырей и разостлали передо мной для подписи петицию, сочившуюся коктейлем из крови и слёз. В челобитной плакальщики, захлебываясь собственными соплями, просили, чтобы поездки на уикенд к морю им предоставляли бесплатно, а не сдирали по два рубли с рыла. Они, конечно, могли бы обойтись и без моего автографа, но смысл заключался в том, что я должен был вручить это послание Рейнерио и уговорить того не вводить нищих и сирых в расход. Я с опаской отогнал ходатаев. 12 марта
Сегодня, воскресным утром, заявился Рейнерио и таинственно сообщил, что вечером предстоит необычное даже для кубинцев развлечение, перед которым мне не следует наедаться. Часов в пять он усадил меня в казенную машину, мы тронулись в путь, но ни на какие вопросы Рейнерио не отвечал и лишь загадочно и многозначительно поднимал палец. Ехали долго по ужасной дороге, заставляющей вспомнить родимый проселок. Наконец наткнулись на высокий забор. Рейнерио что-то прокричал, Сезам отворился, и мы подъехали к небольшому зданию. Рейнерио пригласил меня выйти и подвел к водоему, окруженному невысоким штакетником. - Смотрите! - торжественно сказал он. В воде что-то копошилось. Я пригляделся и - батюшки! - это было скопище крокодилов. - Крокодилья ферма! - с еще большей помпезностью произнес Рейнерио. Я постоял для приличия минут пять - все-таки столько ехали - и направился к автомашине. Однако Рейнерио, взяв меня за руку, ввел в помещение, в котором стояли накрытые скатертями столики. Я заподозрил неладное. - Будем пробовать бифштекс из крокодила! - восторженно объявил проректор. От предложения я отказался так судорожно-решительно, что он тут же отвязался, сказав, что уж он-то такой изысканной трапезой не пожертвует. Когда Рейнерио принесли на блюде что-то дымящееся и красное, я поспешил удалиться... 13 марта
Сегодня познакомился с кубинской медициной, о которой был так наслышан. Встретившись с аспирантами и получив в сто первый раз "маньяну", пришел в такое расстройство нервов, что у меня сломался зуб. Меня тут же сопроводили в университетскую студенческую поликлинику, где я увидел стоматологический кабинет, которым может похвастаться разве только Кремлевка. Мое провинциальное воображение поразило то, что перед работой со мной врач сделала мне анестезию, а потом, приладив наушники, спросила, какую музыку я предпочитаю. Зуб мне сверлили и пилили совершенно безболезненно под "Времена года" Вивальди. Покончив с аварийным зубом, доктор сказала, что не отпустит меня, пока не ревизует остальные сохранившиеся, и хлопотала надо мной еще часа два. В эффективности шести процентов национального дохода, выделяемого Фиделем на здравоохранение, я убедился лично. Вечером, ошалев от консервов, сварил местный овощ юкку - нечто брюквообразное и, как заверили меня, вкусом напоминающее картофель. Когда я отведал это блюдо, то возопил голосом Муму из известного анекдота: "За что?!!" 14 марта
Вот уже с неделю по утрам в автобусе стало раздаваться загадочное слово "отоварка". С каждым днем это слово звучало все эмоциональнее, а последние пару дней - даже нервозно. При этом шел спор о какой-то очереди. На обсуждение, поскольку оно меня не касалось, внимания не обращал и не любопытствовал. Однако сегодня вечером меня посетили двое коллег, и отнюдь не с выпивкой. Держались они напряженно и протокольно официально. Мне было сказано, что поскольку я краткосрочник, и к тому же приехал позже всех, то рассчитывать в очереди на отоварку на что-либо иное, кроме остатков мне не приходится. Когда я попросил разъяснить, что означает этот таинственный термин, то прочёл во взорах коллектива мысль: "Прикидывается!" Оказалось, что примерно раз в месяц-полтора из посольства СССР в Гаване выезжает грузовик с советскими элитарными товарами, продаваемыми на песо по достаточно льготным ценам. Номенклатура товаров весьма разнообразна, но количество ограничено. Поэтому зашедшие в лавку первыми снимают сливки, на долю же последних остаются лишь объедки. Посольство, которому надоело разбирать груды жалоб по поводу "отоварки", приняло решение: тот, кто в предыдущий раз заходил первым, в следующий раз становится в хвост очереди. Список составляется задолго до приезда лавки, рассматривается партийным бюро, утверждается партсекретарем и по приезде отоварки вручается лавочнику, дабы посольский папаша Кураж мог следить за соблюдением справедливости. Заверил, что считаю решение партгруппы глубоко справедливым и ни на что другое не рассчитываю. Конечно, ни в какую отоварку не пойду. Тем более что мое профессорское содержание предполагаю использовать более целесообразно. Рейнерио вот уже неделю пробивает разрешение поселить меня на пару дней в канадском отеле в Санта-Люсии. Канадцы, не будучи связаны, в отличие от Штатов, блокадой, выстроили на Кубе несколько отелей, куда привозят из канадской зимы в вечное кубинское лето туристов. 17 марта
Мы - Рейнерио, его сын, личный шофёр и я - поселились в канадском трехзвездочном отеле. 18 марта
Полностью разделяю тезис великого пролетарского писателя о человеке, который звучит гордо. Добавлю: только в том случае, если этот человек живет в канадском трехзвездочном отеле. Канадцы за свои доллары веселятся в дымину. К вечеру все пьяны: мужчины достойно, а бабы - так, что открой здесь кубинские власти вытрезвитель, он стал бы самым процветающим предприятием на острове. Канадские дамы, хотя и одинаково розовые и в буклях, делятся на три категории: девчушки-резвушки, просто девицы и матроны в зрелом возрасте. У первых возраст 60 остался в прошлом. Вторые в графе "возраст" ставят прочерк. Третьи приехали на Кубу, отпросившись в турпоездку из археологического музея, где состоят экспонатами в первых залах. Вечером в гостинице - кабаре. Самая необременительная профессия в мире - это кубинские поэты-песенники. Почти все песни состоят из одного слова. Певец на высокой ноте орет: "Мария, Мария, Мария!!!". На месте Марий я бы давно предоставил кабальеро все, что они хотят, но Марии здесь, видимо, звукоустойчивы. На ужин были лангусты. Это блюдо без труда можно готовить и у нас. Всего только и требуется проварить крупно нарезанный ученический ластик минут пять и обильно полить кетчупом... 20 марта
Сегодня Лаэрт провернул "мероприятие", от которого осадок сквернейший: встреча с советскими женами кубинцев, живущих в провинции Камагуэй. Пришли с детками десятка полтора девочек, выскочивших в Союзе за кубинцев и оказавшихся здесь. Уже через десять минут после начала "мероприятия" жены начали всхлипывать, им стали вторить наши дамы, и закончилось все хоровым рыданием. Положение этих женщин аховое. Кто по любви, кто желая вкусить от заграничной жизни, приехал сюда и очутился в основном в деревнях, по сравнению с которыми наш забытый Богом сельский хутор - столица. Уехать невозможно, так как Фидель категорически запретил вывозить сыновей с острова. Да и тех, у кого дочки, тоже выпускают с большим скрипом. Отношение к женам здесь, на Кубе, в основном - байское. Жить - голодно. Посольство вспоминает о соотечественницах лишь во время выборов. И еще присылает изредка газету "Голос Родины"... И не поможешь ничем. 23 марта
Сегодня утром перед вылетом в Гавану, где проведу три дня, Рейнерио собрал наших аспирантов. Прощались, согласовывали дальнейшие действия, молодые люди обещали не реже одного раза в две недели сообщать мне о достижениях по части эксперимента. Я делал вид, что верю. - Да, - спохватился я, уже выходя из лаборатории, - а как же расчет, тот самый, который вы должны были мне показать еще три недели назад? - Маньяна! - хором ответствовали аспиранты. |

Куба |

|

|
|
Комментарии
К1
В оригинале книги было написано "железосинеродистый кадмий" 
Прим. ред. К2 Диметилкарбинол - не этанол, а изопропиловый спирт (ИПС). Этанол по рациональной номенклатуре - метилкарбинол. Прим. ред. К3 Ю.Я. Фиалков описал ситуацию, когда кубинцы выписывали за больше деньги специалистов из Союза, добросовестно платили им жалование, но абсолютно не загружали работой. Более того - всякий раз шарахались, когда специалист просил дать ему какую-либо работу. Это до боли напоминает события романа И. Ильфа и Е. Петрова "Золотой теленок". Разумеется, эта книга - художественный вымысел, но авторы писали ее с натуры - исходя из реальных событий, которые имели место в Советской России 1920-х гг. В романе описаны злоключения немецкого инженера по имени Генрих Мария Заузе, которого выписали из Германии за хорошие деньги. Причем не просто так: его услуги были действительно нужны тресту "Геркулес". На Родине знакомый сказал инженеру: "...за свои деньги большевики заставят вас поработать." А вышло с точностью до наоборот! Все попытки пунктуального немца приступить к исполнению обязанностей заканчивались тем, что его или отсылали подальше или "кормили завтраками" (наш аналог кубинского "маньяна"), но при этом инженеру исправно платили зарплату. Вот что немец вскоре написал своей невесте: "Милая крошка. Я живу странной и необыкновенной жизнью. Я ровно ничего не делаю, но получаю деньги пунктуально, в договорные сроки. Все это меня удивляет..." Интересное совпадение: разные эпохи, разные страны - и практически идентичная ситуация. Невероятная ситуация. Специалистов выписывают за большие деньги, добросовестно им платят, но не загружают работой. А при попытках специалиста получить хоть какое-то задание работодатели от него шарахаются. Не следует, однако, забывать, что страны разные, народы разные, времена разные, а система была одна. Ведь и кубинцы, и начальство вымышленного треста "Геркулес" платили иностранным специалистам деньги не из своего кармана... "Все вокруг колхозное, все вокруг ничье." Прим. ред. |
Обнаружив ошибку на странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter | ОГЛАВЛЕНИЕ |
||
|
ОБРЫВКИ БИОГРАФИИ
Записки благополучного еврея Мой друг Лёнька Со студентами на кукурузе Я и ЦК КПУ Эпизоды ЛЮДИ РАЗНЫЕ И НЕ ОЧЕНЬ Низшие чины и собаки Вариации на тему "Сергей Николаевич Оголевец" Встреча с Павлом Григорьевичем Тычиной Профессор химии - оперный певец - актриса Главный эксперт ЦК по цветной металлургии Как состарили кинжал Академик Д., баварское пиво и копчёнка "Создатель" концепций и учебников из "Менделеевки" Партийный вождь П. Е. Шелест ВОСПОМИНАНИЯ ОППОНЕНТА, РЕЦЕНЗЕНТА И ЧЛЕНА УЧЕНЫХ СОВЕТОВ Провинциальная история Рассказ с моралью Защитная мозаика КОЕ-ЧТО ХИМИЧЕСКОЕ Надежная фирма "Кальбаум" Камешки из химико-мемуарной мозаики ЗАРУБЕЖ Венгрия Польша, 1973, 1977 Куба - любовь моя? КПИ - ЛИЧНОСТИ И ЛИЦА... Академик с причудами (В. А. Плотников) "Химии бояться не надо!" (В. А. Избеков) Нейтральный профессор "Зодчий" в роли ректора Партийный секретарь Начальник первого отдела Происки зелёного змия Профессора партийной истории Б. Рубенчик. Послесловие ПРИЛОЖЕНИЕ К "ОБРЫВКАМ ИЗ БИОГРАФИИ" КАМЕШКИ ИЗ ХИМИЧЕСКОЙ МОЗАИКИ Как изгнать нечистую силу Нейтрализация? УКРОЩЕНИЕ БЫТА ВЫМЫШЛЕННЫЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ ОТРЫВКИ ИЗ КНИГИ ФЕЛИКСА КВАДРИГИНА: "НА БАЙДАРКЕ" Закупка провианта Пищи варение "МОЯ ЖИЗНЬ В ИСКУССТВЕ" МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИМПРЕССИИ СПИСОК НАУЧНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДАНИЙ Ю. Я. ФИАЛКОВА |
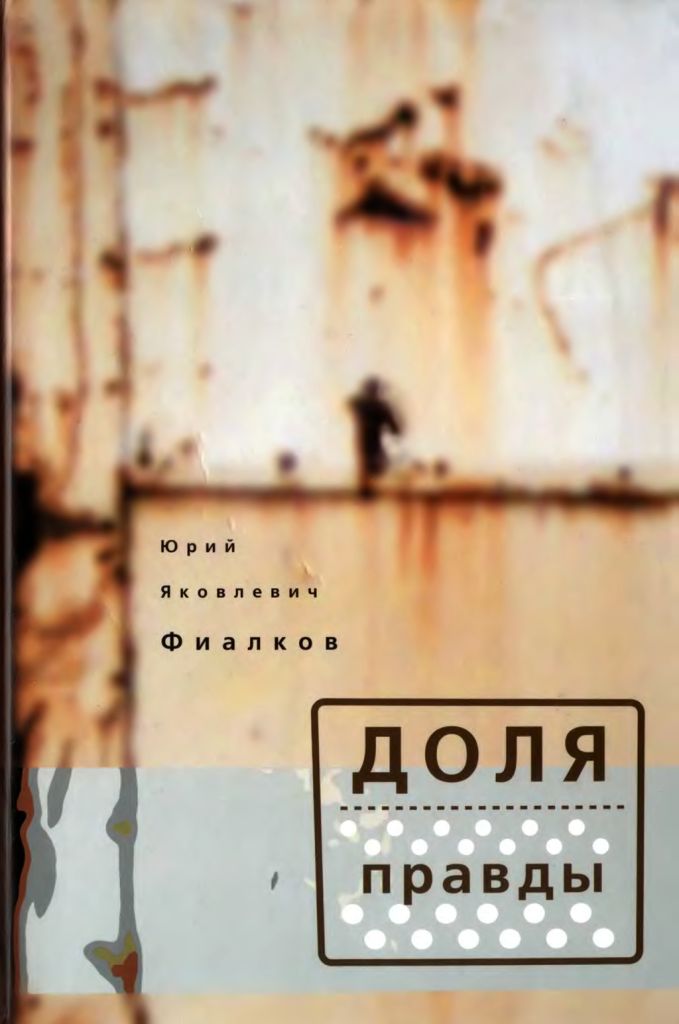

Фиалков Ю.Я. |
||
|
<Химические вулканы и Фараоновы змеи ч.2> <Химические вулканы ч.1> < Опыты со щелочными металлами > < Опыты со щелочными металлами 1 > [Эксперименты с ацетиленом, метаном, пропаном и бутаном] <Эксперименты с пропан-бутановой смесью 1> <Эксперименты с пропан-бутановой смесью 2> <Эксперименты с фосфором ч.1> <Эксперименты с фосфором ч.2> <Эксперименты с водородом 1> <Эксперименты с водородом 2> <Эксперименты с водородом 3> <Хлористый азот (трихлорид азота). Иодистый азот (нитрид иода)> <Перекись ацетона, ГМТД, органические перекиси> <Черный порох> <Кумулятивный эффект (№5 2011)> <Нитроглицерин, Этиленгликольдинитрат, Нитроэфиры, Нитропроизводные> <Огонь от капли воды (№1 2012)> <Огонь на ладони (Холодный огонь)> <Ртуть, Амальгамы, Соединения Ртути> <Приключения Химиков / Жизнь Химиков (Обсудить на форуме)> [Отправить Комментарий / Сообщение об ошибке] |